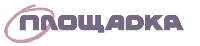Ответы на вопросы для дежурного по Площадке, оставшиеся за кадром вебинара
Вопрос — Ответ
• *
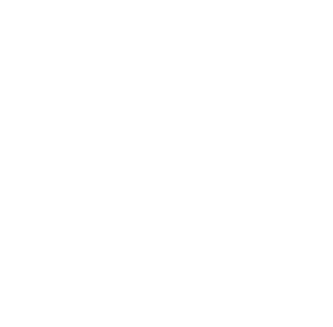
Римма Чеботарева, практикующий психолог
Первым делом хочется поддержать автора. Если вы чувствуете, переживаете эмоции, значит,
с вами все в порядке, значит, вы живой человек.
Если я вас правильно понимаю, под словом «справиться» вы подразумеваете желание подавить и побороть эмоции. Если это так, вы, сами того не понимая, ведете своеобразную войну внутри себя с самим собой. Воевать
с собой очень больно, проигравшая сторона всегда — вы. Поэтому предлагаю сменить фокус
с борьбы на исследование.
Если какого-то чувства очень много, оно затапливает. Возможно, пора дать ему место, услышать, что за ним стоит, какое ваше желание или потребность.
Например, гнев нужен нам для защиты себя. Себя защищать важно, если гнев сильный, вас захватывает ярость, возможно, сильно нарушаются ваши границы. Или если мы завидуем чему-то очень сильно, возможно, это про какой-то сильный дефицит.
Когда мы плачем и грустим, мы отпускаем боль, переживаем ее, освобождаемся. Как видите, у каждого чувства свои дары!
Не бороться со своими чувствами, а слышать их, стараться понять причину — это и есть движение навстречу себе, возможность знакомства с собой новым, так появляется шанс жить свою жизнь.
Первым делом хочется поддержать автора. Если вы чувствуете, переживаете эмоции, значит,
с вами все в порядке, значит, вы живой человек.
Если я вас правильно понимаю, под словом «справиться» вы подразумеваете желание подавить и побороть эмоции. Если это так, вы, сами того не понимая, ведете своеобразную войну внутри себя с самим собой. Воевать
с собой очень больно, проигравшая сторона всегда — вы. Поэтому предлагаю сменить фокус
с борьбы на исследование.
Если какого-то чувства очень много, оно затапливает. Возможно, пора дать ему место, услышать, что за ним стоит, какое ваше желание или потребность.
Например, гнев нужен нам для защиты себя. Себя защищать важно, если гнев сильный, вас захватывает ярость, возможно, сильно нарушаются ваши границы. Или если мы завидуем чему-то очень сильно, возможно, это про какой-то сильный дефицит.
Когда мы плачем и грустим, мы отпускаем боль, переживаем ее, освобождаемся. Как видите, у каждого чувства свои дары!
Не бороться со своими чувствами, а слышать их, стараться понять причину — это и есть движение навстречу себе, возможность знакомства с собой новым, так появляется шанс жить свою жизнь.
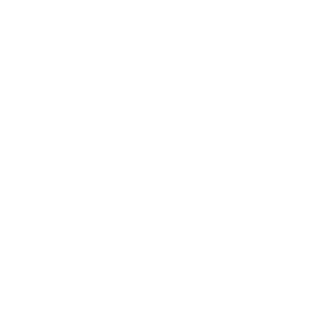
Елена Генс, психотерапевт в экзистенциальном и интегративном отношенческом подходах, ко-тренер программ по экзистенциальному анализу GLE (А.Лэнгле), член Совета Тренеров АЭАПП
Ответ на этот вопрос очень зависит от того, с чем именно работает терапевт.
Если речь идет о семейной терапии, если специалист работает с коммуникациями в семейной системе – тогда, конечно, он будет работать с сиблингами, и, скорее всего, с родителями. Это может быть актуальным, например, в случае, когда родители обратились по поводу конфликтов в семье, отношений между разными членами семьи.
Если же мы говорим о личной психотерапии ребенка – в разных подходах существуют разные мнения на этот счет, но я согласна скорее с теми, которые предлагают более строгую рамку на этот счет: один член семьи – один терапевт. Почему?
Я могу себе представить очень разные причины, почему может хотеться взять в работу второго сиблинга. Особенно если мы начали работать со вторым ребенком раньше. У нас уже есть понимание контекста этой семьи, есть некоторое понимание его ситуации. В хорошем варианте, уже есть некоторый альянс с родителями. У них есть доверие ко мне, а вдруг, если я порекомендую другого специалиста, что-то пойдет не так? Опять же, у нас может быть много сочувствия ко второму ребенку, поэтому очень хочется ему помочь.
Но важно задаваться вопросом: что будет наиболее подходящим способом ему помочь?
Работа со мной? Или рекомендация группы? Или рекомендация другого специалиста?
И второй момент: допустим, я вижу плюсы его работы со мной. А какие минусы? Мы хорошо знаем, что важно быть чувствительными к цене выборов.
В первую очередь, мы должны понимать, что тут работает то же самое правило, которого мы придерживаемся со взрослыми: любые пересечения между нашими клиентами создают дополнительную динамику в нашем кабинете. Чем ближе эти пересечения (если наши клиенты – друзья, или родственники) – тем больше таких процессов будет происходить, и тем больше рисков для терапии это несет. Если психотерапевт соглашается на такую работу, он должен быть постоянно настороже, постоянно «высматривать» скрытую динамику, ее разворачивать и называть. Но это очень нагружает, это создает необходимость постоянно удерживать второй слой работы, отвлекая часть внимания и энергии от основного. А если этого не делать – как мы знаем, скрытое, неназванное в нашем кабинете имеет тенденцию разыгрываться, создавая серьезные проблемы для психотерапии.
Пересечения создают сложность и для клиента. И взрослому, и ребенку, если он знает, что мы одновременно работаем с его другом, членом его семьи, т.д., может быть (сознательно или подсознательно) труднее нам доверять: а вдруг тот другой рассказывал про меня в плохом ключе? А вдруг терапевт этому поверил? А вдруг он «с ним заодно» против меня? А что, если мы тут рассказываем про конфликт друг между другом… а мой терапевт должен быть, в глобальном смысле, «за меня», а как он может быть за обоих, если тот, другой, явно дурак?
И последнее: для сиблингов особенно актуальна тема своего пространства. Им так часто приходится все друг с другом делить: комнату, игрушки, маму, папу… (Поэтому считается, что здорово, если у детей есть хотя бы какие-то «только свои» занятия, только свое пространство: что-то очень личное). В психотерапии у ребенка есть шанс получить опыт, что какой-то взрослый может быть только для него, его не надо делить с братом или сестрой. (А ведь это такой важный опыт!) Обидно было бы им не воспользоваться!
Ответ на этот вопрос очень зависит от того, с чем именно работает терапевт.
Если речь идет о семейной терапии, если специалист работает с коммуникациями в семейной системе – тогда, конечно, он будет работать с сиблингами, и, скорее всего, с родителями. Это может быть актуальным, например, в случае, когда родители обратились по поводу конфликтов в семье, отношений между разными членами семьи.
Если же мы говорим о личной психотерапии ребенка – в разных подходах существуют разные мнения на этот счет, но я согласна скорее с теми, которые предлагают более строгую рамку на этот счет: один член семьи – один терапевт. Почему?
Я могу себе представить очень разные причины, почему может хотеться взять в работу второго сиблинга. Особенно если мы начали работать со вторым ребенком раньше. У нас уже есть понимание контекста этой семьи, есть некоторое понимание его ситуации. В хорошем варианте, уже есть некоторый альянс с родителями. У них есть доверие ко мне, а вдруг, если я порекомендую другого специалиста, что-то пойдет не так? Опять же, у нас может быть много сочувствия ко второму ребенку, поэтому очень хочется ему помочь.
Но важно задаваться вопросом: что будет наиболее подходящим способом ему помочь?
Работа со мной? Или рекомендация группы? Или рекомендация другого специалиста?
И второй момент: допустим, я вижу плюсы его работы со мной. А какие минусы? Мы хорошо знаем, что важно быть чувствительными к цене выборов.
В первую очередь, мы должны понимать, что тут работает то же самое правило, которого мы придерживаемся со взрослыми: любые пересечения между нашими клиентами создают дополнительную динамику в нашем кабинете. Чем ближе эти пересечения (если наши клиенты – друзья, или родственники) – тем больше таких процессов будет происходить, и тем больше рисков для терапии это несет. Если психотерапевт соглашается на такую работу, он должен быть постоянно настороже, постоянно «высматривать» скрытую динамику, ее разворачивать и называть. Но это очень нагружает, это создает необходимость постоянно удерживать второй слой работы, отвлекая часть внимания и энергии от основного. А если этого не делать – как мы знаем, скрытое, неназванное в нашем кабинете имеет тенденцию разыгрываться, создавая серьезные проблемы для психотерапии.
Пересечения создают сложность и для клиента. И взрослому, и ребенку, если он знает, что мы одновременно работаем с его другом, членом его семьи, т.д., может быть (сознательно или подсознательно) труднее нам доверять: а вдруг тот другой рассказывал про меня в плохом ключе? А вдруг терапевт этому поверил? А вдруг он «с ним заодно» против меня? А что, если мы тут рассказываем про конфликт друг между другом… а мой терапевт должен быть, в глобальном смысле, «за меня», а как он может быть за обоих, если тот, другой, явно дурак?
И последнее: для сиблингов особенно актуальна тема своего пространства. Им так часто приходится все друг с другом делить: комнату, игрушки, маму, папу… (Поэтому считается, что здорово, если у детей есть хотя бы какие-то «только свои» занятия, только свое пространство: что-то очень личное). В психотерапии у ребенка есть шанс получить опыт, что какой-то взрослый может быть только для него, его не надо делить с братом или сестрой. (А ведь это такой важный опыт!) Обидно было бы им не воспользоваться!
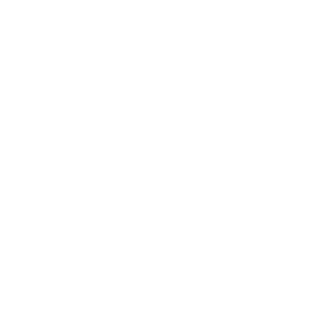
Елена Бочкарева, медицинский психолог, гештальт-терапевт, экзистенциальный терапевт
В первую очередь хочется высказать Вам слова уважения за многолетний вклад в свою психотерапию. Это важная работа, которая без сомненья поддерживает Вас. Процесс психотерапии состоит не только из исследования прошлых травм, он также включает в себя формирование и тренировку тех психических функций и процессов, которые были не полностью зрелыми из-за как раз, как Вы пишите в вопросе, «детских травм». Такая функциональная тренировка может требовать поддержки в форме медикаментозного лечения, объем которого можно обсудить с врачом-психотерапевтом или врачом-психиатром.
Также важно вместе с психологом наметить примерный план функциональных тренировок по контролю над тревогой и начать это делать в жизни. Возможно, что к индивидуальной терапии можно присоединить групповую терапию; Ваше участие в группе сможет стать новым опытом, который начнет формировать основы той «полноценной жизни», о которой Вы мечтаете. Удачи Вам в этом)
В первую очередь хочется высказать Вам слова уважения за многолетний вклад в свою психотерапию. Это важная работа, которая без сомненья поддерживает Вас. Процесс психотерапии состоит не только из исследования прошлых травм, он также включает в себя формирование и тренировку тех психических функций и процессов, которые были не полностью зрелыми из-за как раз, как Вы пишите в вопросе, «детских травм». Такая функциональная тренировка может требовать поддержки в форме медикаментозного лечения, объем которого можно обсудить с врачом-психотерапевтом или врачом-психиатром.
Также важно вместе с психологом наметить примерный план функциональных тренировок по контролю над тревогой и начать это делать в жизни. Возможно, что к индивидуальной терапии можно присоединить групповую терапию; Ваше участие в группе сможет стать новым опытом, который начнет формировать основы той «полноценной жизни», о которой Вы мечтаете. Удачи Вам в этом)
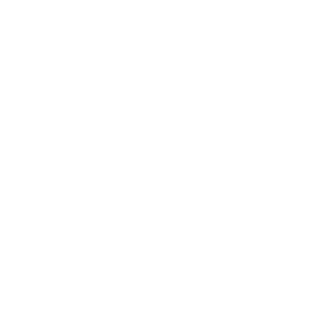
Мария Павлова, психотерапевт, преподаватель, супервизор
Помимо общего размышления о расщеплении в семьях, социальных группах, между странами, которое порой невыносимо трудно выдерживать в контакте, можно попробовать искать в работе с пациентом его уникальное, личное в контексте происходящих сейчас со всеми событий.
Пациент покинул Россию, добровольно или вынужденно он изменил всю свою жизнь, сталкивается со сложностями переселения, обустройства в чужой стране и в культуре, лишен многих привычных ресурсов. Он также покинул „дом“, в котором вырос, дом, с которым связана вся история его жизни. Он может испытывать сильнейшую тревогу о своем будущем, бессилие и беспомощность. Как и терапевт впрочем.
Именно совпадение в переживаниях и несовпадение в проявлениях может вызывать сложность в восприятии терапевтом ситуации. Терапевт при том остался „дома“, его ближайший мир на том же месте. Агрессия же в свою очередь, особенно если она „оправданная“ — праведный гнев — позволяет чувствовать себя сильным и правым. Не беспомощным, не бессильным, не слабым.
Агрессия позволяет защититься от тоски по дому и привычному окружению, по родному языку и близким, от тревоги за будущее, от страха потерять свою историю.
Возможно мои размышления помогут терапевту выдерживать и понимать ярость пациента в контексте его личности, а не только в контексте расщепления на плохой/хороший, правильно/неправильно и так далее.
Помимо общего размышления о расщеплении в семьях, социальных группах, между странами, которое порой невыносимо трудно выдерживать в контакте, можно попробовать искать в работе с пациентом его уникальное, личное в контексте происходящих сейчас со всеми событий.
Пациент покинул Россию, добровольно или вынужденно он изменил всю свою жизнь, сталкивается со сложностями переселения, обустройства в чужой стране и в культуре, лишен многих привычных ресурсов. Он также покинул „дом“, в котором вырос, дом, с которым связана вся история его жизни. Он может испытывать сильнейшую тревогу о своем будущем, бессилие и беспомощность. Как и терапевт впрочем.
Именно совпадение в переживаниях и несовпадение в проявлениях может вызывать сложность в восприятии терапевтом ситуации. Терапевт при том остался „дома“, его ближайший мир на том же месте. Агрессия же в свою очередь, особенно если она „оправданная“ — праведный гнев — позволяет чувствовать себя сильным и правым. Не беспомощным, не бессильным, не слабым.
Агрессия позволяет защититься от тоски по дому и привычному окружению, по родному языку и близким, от тревоги за будущее, от страха потерять свою историю.
Возможно мои размышления помогут терапевту выдерживать и понимать ярость пациента в контексте его личности, а не только в контексте расщепления на плохой/хороший, правильно/неправильно и так далее.
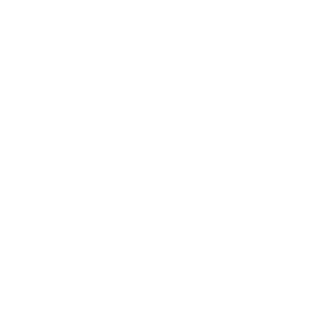
Елена Генс, психотерапевт в экзистенциальном и интегративном отношенческом подходах, ко-тренер программ по экзистенциальному анализу GLE (А.Лэнгле), член Совета Тренеров АЭАПП
Вы очень точно об этом пишете – «путь», «расти». Когда мы понимаем про себя что-то новое, нам очень хочется, чтобы наше поведение изменилось раз и навсегда, и это совершенно нормально.
Но это все равно что показать ребенку, как ехать на спортивном велосипеде, убедиться, что он понял, и… удивляться (или даже ругать его), почему он не едет.
Новое поведение – такой же новый навык, как любой другой. Мы осваиваем его постепенно и по кусочкам. Сперва разбираемся, как поставить ногу на педаль, потом – как эту педаль крутить… В этом процессе самое главное – экспериментировать, пробовать хотя бы немножко по-другому, получать новый опыт. Здесь нам помогает новое понимание: Вы уже знаете, что Вы делали раньше, и почему это не лучший на данный момент способ. Соответственно, Вы знаете, чего Вы пока не пробовали.)
Любой новый навык, физический или психический, осваивается именно так. Мы можем наблюдать за другими, но обязательно наступает время пробовать. Если не получается (или если мы упали с велосипеда) – делать выводы, пробовать немножко по-другому, и проверять, что будет.
И, конечно, если мы несколько раз падали с велосипеда, снова поехать нам будет страшнее. Наш мозг подает нам сигнал об опасности. Но очень важно пробовать потихоньку, настолько, насколько мы можем на данный момент, - потому что наш мозг делает выводы исключительно на основании опыта, обмануть его не получится: он так и будет нас предупреждать об опасности (чувством страха), пока мы не убедим его, на основании нового опыта, что мы уже не всегда падаем с этого велосипеда. (Или что мы теперь умеем падать не больно :)). Точно так же и с психологической травмой.
Может быть, раненое место уже подзажило и не так болит. Но первый раз двигать им обычно страшно. И очень разумно – делать это потихоньку.
Здорово, если получается поддерживать себя, как того ребенка, который садится на велосипед после падения. Ведь с Вами сейчас происходит именно это.
Нам всем нужно свое количество времени, но есть и хорошая новость: со временем любые переломы разрабатываются, любые навыки осваиваются, и в какой-то момент Вы обнаружите себя «едущим на этом велосипеде» уже совершенно автоматически.
Вы очень точно об этом пишете – «путь», «расти». Когда мы понимаем про себя что-то новое, нам очень хочется, чтобы наше поведение изменилось раз и навсегда, и это совершенно нормально.
Но это все равно что показать ребенку, как ехать на спортивном велосипеде, убедиться, что он понял, и… удивляться (или даже ругать его), почему он не едет.
Новое поведение – такой же новый навык, как любой другой. Мы осваиваем его постепенно и по кусочкам. Сперва разбираемся, как поставить ногу на педаль, потом – как эту педаль крутить… В этом процессе самое главное – экспериментировать, пробовать хотя бы немножко по-другому, получать новый опыт. Здесь нам помогает новое понимание: Вы уже знаете, что Вы делали раньше, и почему это не лучший на данный момент способ. Соответственно, Вы знаете, чего Вы пока не пробовали.)
Любой новый навык, физический или психический, осваивается именно так. Мы можем наблюдать за другими, но обязательно наступает время пробовать. Если не получается (или если мы упали с велосипеда) – делать выводы, пробовать немножко по-другому, и проверять, что будет.
И, конечно, если мы несколько раз падали с велосипеда, снова поехать нам будет страшнее. Наш мозг подает нам сигнал об опасности. Но очень важно пробовать потихоньку, настолько, насколько мы можем на данный момент, - потому что наш мозг делает выводы исключительно на основании опыта, обмануть его не получится: он так и будет нас предупреждать об опасности (чувством страха), пока мы не убедим его, на основании нового опыта, что мы уже не всегда падаем с этого велосипеда. (Или что мы теперь умеем падать не больно :)). Точно так же и с психологической травмой.
Может быть, раненое место уже подзажило и не так болит. Но первый раз двигать им обычно страшно. И очень разумно – делать это потихоньку.
Здорово, если получается поддерживать себя, как того ребенка, который садится на велосипед после падения. Ведь с Вами сейчас происходит именно это.
Нам всем нужно свое количество времени, но есть и хорошая новость: со временем любые переломы разрабатываются, любые навыки осваиваются, и в какой-то момент Вы обнаружите себя «едущим на этом велосипеде» уже совершенно автоматически.
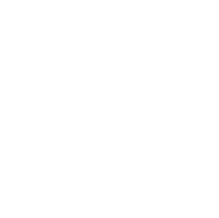
Анна Моисейченко, психолог-консультант, психотерапевт
То, что описываете очень похоже «Синдром самозванца». Термин американских психологов: П. Клэнс и С. Аймс. Согласно их определению, синдром самозванца — это внутреннее ощущение сомнения в своих интеллектуальных способностях.
Если бы вы могли описать это ощущение, то как бы охарактеризовали? Какие чувства можете назвать?
Часто это страх, тревога, вина за успех/провал, страх неудачи, недоверие. Может быть так, что недоверие к себе связано со страхом совершить ошибку. Но понятие ошибки относительно, ведь именно через них, в том числе, происходит развитие. То, что сейчас кажется непреодолимой ошибкой может трансформироваться в кризис, который, в конечном счете, приведет к росту.
Детям, также как и пациентам/клиентам, не нужны идеальные родители и терапевты. Еще Д.В. Винникотт писал о «Достаточно хорошей матери» (в процентном соотношении 40-50%). На идеального терапевта невозможно злиться, а ведь одна из задач терапии — проживание аффектов. Когда ошибаемся, в терапии всегда происходит что-то важное. Только так можно обнаружить перед собой человека, неидеального, совершающего ошибки, признающего эти ошибки, не всемогущего, но живого и настоящего. А уже с этим материалом, с осознанием произошедшего, идти к супервизору и там находить опору в виде осмысления, символизации и представления о том, как дальше работать.
Практическим навыкам не научиться в теории. В этом смысле у каждого свой путь и свои допущения. Нет ни одного психолога, который не ошибается.
Даже сейчас, когда пишу ответ на вопрос, тоже думаю, что много не знаю, и тогда опираюсь на себя, на то, что есть, а не то, что будет через год. И, возможно, кто-то найдет для себя этот текст интересным, полезным, наводящим на мысли, идеи. Этого уже достаточно, я не ставила перед собой задачу решить запрос человека с его индивидуальной вселенной, уложившись в определенное количество знаков. Это невозможно.
Поэтому поддержка — важная составляющая, как в начале пути, так и в его продолжении. Вы можете организовать или присоединиться к существующим группам единомышленников и сообществам (интервизионные группы, балинтовские группы, супервизионные группы, ассоциации).
Чтение профессиональной литературы, обучение, семинары также могут быть опорными.
Когда доверяем себе, находим опоры внутри, тогда рождается нечто прекрасное и ценное. То, что мы создаем преломляется через нашу жизнь, историю, смыслы и, это становится чем-то уникальным, ни на что не похожим, этого не прочитаешь в книге, о нас там не написано. Терапия – тоже творчество, причем совместное. И опора появляется в тот момент, когда решаемся, когда верим, когда пробуем, когда ошибаемся, осознаем и снова пробуем.
Безусловно, личная терапия помогает справляться с ощущением: «я ничего не знаю». Об этом можно и нужно говорить со своим терапевтом и постепенно формировать адекватное самовосприятие. Несмотря на узнаваемость вопроса, за ним стоит ваша личная история. То, что не связано внутри становится тем, что останавливает в развитии. Ведь начало практики подразумевает развитие в профессии. Психологом/психотерапевтом только формально становятся после ВУЗа, но именно практика делает психолога психологом.
Мы все периодически сомневаемся в себе, своих знаниях, компетенциях на тот или иной счет. В этом смысле помогает коучинг и консультативная психотерапия. Где пошагово разрабатывается стратегия и план действий рядом с наставником, в виде коуча.
Ограничения. Можно обозначить то, с чем готовы работать. Это снизит тревогу, что придет пациент с чем-то пока для вас сложным.
Терапия — это отношения. Способны ли вы выдерживать границы, давать пространство другому, думать о другом, быть для другого? В конечном счете, теория нужна, в первую очередь, нам самим. Мы учимся, исследуем, познаем для того, чтобы сформировать определенный способ мышления. Наши знания не нужны пациентам.
Выбирая профессию психолога, стоит понимать, что обучение и получение знаний – часть профессионального пути, на протяжении всей практики. Но, если только учиться, тогда знания становятся отягощающими. Накапливание в какой-то момент перекроет циркуляцию. Воздух должен циркулировать.
Дополню этот текст цитатой из книги Ирины Млодик: «В туннеле магического мышления. Оберегая себя от реальности».
«Чем больше человек узнает, тем быстрее он избавляется от однозначности в оценке сложного явления и, тем больше он «знает, что ничего не знает», но при этом остается в позиции исследователя. И в этом смысле невеже живется проще – он уверен, что постиг истину».
Позиция «исследователя» помогает справляться с ощущением: «я ничего не знаю», а сохранение интереса и удовольствия в деле способствует этому.
То, что описываете очень похоже «Синдром самозванца». Термин американских психологов: П. Клэнс и С. Аймс. Согласно их определению, синдром самозванца — это внутреннее ощущение сомнения в своих интеллектуальных способностях.
Если бы вы могли описать это ощущение, то как бы охарактеризовали? Какие чувства можете назвать?
Часто это страх, тревога, вина за успех/провал, страх неудачи, недоверие. Может быть так, что недоверие к себе связано со страхом совершить ошибку. Но понятие ошибки относительно, ведь именно через них, в том числе, происходит развитие. То, что сейчас кажется непреодолимой ошибкой может трансформироваться в кризис, который, в конечном счете, приведет к росту.
Детям, также как и пациентам/клиентам, не нужны идеальные родители и терапевты. Еще Д.В. Винникотт писал о «Достаточно хорошей матери» (в процентном соотношении 40-50%). На идеального терапевта невозможно злиться, а ведь одна из задач терапии — проживание аффектов. Когда ошибаемся, в терапии всегда происходит что-то важное. Только так можно обнаружить перед собой человека, неидеального, совершающего ошибки, признающего эти ошибки, не всемогущего, но живого и настоящего. А уже с этим материалом, с осознанием произошедшего, идти к супервизору и там находить опору в виде осмысления, символизации и представления о том, как дальше работать.
Практическим навыкам не научиться в теории. В этом смысле у каждого свой путь и свои допущения. Нет ни одного психолога, который не ошибается.
Даже сейчас, когда пишу ответ на вопрос, тоже думаю, что много не знаю, и тогда опираюсь на себя, на то, что есть, а не то, что будет через год. И, возможно, кто-то найдет для себя этот текст интересным, полезным, наводящим на мысли, идеи. Этого уже достаточно, я не ставила перед собой задачу решить запрос человека с его индивидуальной вселенной, уложившись в определенное количество знаков. Это невозможно.
Поэтому поддержка — важная составляющая, как в начале пути, так и в его продолжении. Вы можете организовать или присоединиться к существующим группам единомышленников и сообществам (интервизионные группы, балинтовские группы, супервизионные группы, ассоциации).
Чтение профессиональной литературы, обучение, семинары также могут быть опорными.
Когда доверяем себе, находим опоры внутри, тогда рождается нечто прекрасное и ценное. То, что мы создаем преломляется через нашу жизнь, историю, смыслы и, это становится чем-то уникальным, ни на что не похожим, этого не прочитаешь в книге, о нас там не написано. Терапия – тоже творчество, причем совместное. И опора появляется в тот момент, когда решаемся, когда верим, когда пробуем, когда ошибаемся, осознаем и снова пробуем.
Безусловно, личная терапия помогает справляться с ощущением: «я ничего не знаю». Об этом можно и нужно говорить со своим терапевтом и постепенно формировать адекватное самовосприятие. Несмотря на узнаваемость вопроса, за ним стоит ваша личная история. То, что не связано внутри становится тем, что останавливает в развитии. Ведь начало практики подразумевает развитие в профессии. Психологом/психотерапевтом только формально становятся после ВУЗа, но именно практика делает психолога психологом.
Мы все периодически сомневаемся в себе, своих знаниях, компетенциях на тот или иной счет. В этом смысле помогает коучинг и консультативная психотерапия. Где пошагово разрабатывается стратегия и план действий рядом с наставником, в виде коуча.
Ограничения. Можно обозначить то, с чем готовы работать. Это снизит тревогу, что придет пациент с чем-то пока для вас сложным.
Терапия — это отношения. Способны ли вы выдерживать границы, давать пространство другому, думать о другом, быть для другого? В конечном счете, теория нужна, в первую очередь, нам самим. Мы учимся, исследуем, познаем для того, чтобы сформировать определенный способ мышления. Наши знания не нужны пациентам.
Выбирая профессию психолога, стоит понимать, что обучение и получение знаний – часть профессионального пути, на протяжении всей практики. Но, если только учиться, тогда знания становятся отягощающими. Накапливание в какой-то момент перекроет циркуляцию. Воздух должен циркулировать.
Дополню этот текст цитатой из книги Ирины Млодик: «В туннеле магического мышления. Оберегая себя от реальности».
«Чем больше человек узнает, тем быстрее он избавляется от однозначности в оценке сложного явления и, тем больше он «знает, что ничего не знает», но при этом остается в позиции исследователя. И в этом смысле невеже живется проще – он уверен, что постиг истину».
Позиция «исследователя» помогает справляться с ощущением: «я ничего не знаю», а сохранение интереса и удовольствия в деле способствует этому.
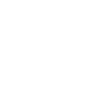
Ирина Млодик, детский психолог, экзистенциальный психотерапевт
Когда дети вырастают, нам, прежде всего, предстоит принять факт их взросления, а это сопровождается переживанием потери, а значит гореванием. Мы рожаем и выращиваем, чтобы отпустить и это грустно. Но многие родители вместо горевания испытывают тревогу. Тревога означает: я не верю, что он справится. А раз он не справится, то он маленький, ему по-прежнему нужна мама. Удобно, правда? Можно и не отпускать тогда.
Подумайте о сильных сторонах личности своего ребенка, поспрашивайте тех, кто его знает. Ваше ощущение и послание: «мы ему много дали, он многое умеет и может, он справится» — поможет и вам, и ему. С таким посылом можно горы свернуть.
Когда дети вырастают, нам, прежде всего, предстоит принять факт их взросления, а это сопровождается переживанием потери, а значит гореванием. Мы рожаем и выращиваем, чтобы отпустить и это грустно. Но многие родители вместо горевания испытывают тревогу. Тревога означает: я не верю, что он справится. А раз он не справится, то он маленький, ему по-прежнему нужна мама. Удобно, правда? Можно и не отпускать тогда.
Подумайте о сильных сторонах личности своего ребенка, поспрашивайте тех, кто его знает. Ваше ощущение и послание: «мы ему много дали, он многое умеет и может, он справится» — поможет и вам, и ему. С таким посылом можно горы свернуть.
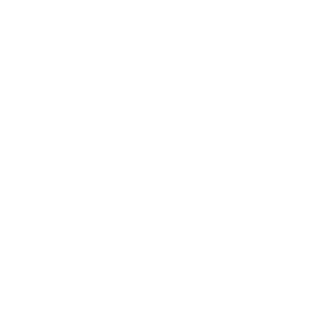
Елена Генс, психотерапевт в экзистенциальном и интегративном отношенческом подходах, ко-тренер программ по экзистенциальному анализу GLE (А.Лэнгле), член Совета Тренеров АЭАПП
Я очень положительно отношусь к разным подходам в психологии. Благодаря им у клиентов существует выбор. Мы ведь действительно очень разные, и нам подходит разное. (Ведь здорово, что есть не только шпинат, но и помидоры, и даже мороженое?)
Разные психологические подходы работают при помощи разных инструментов. И это здорово. Помните, когда Вы учились – кому-то легче было запомнить при помощи картинок, кому-то – на слух, кому-то нужно было записать самому. Это связано с индивидуальными особенностями восприятия.
Психолог – тоже человек, поэтому у него тоже есть свои индивидуальные особенности. Да, психологам тоже могут больше подходить те или иные подходы. Мы выбираем, какими инструментами нам комфортнее работать, что у нас лучше получается.
А наши клиенты выбирают, что больше подходит им. (Часто размышлять о том, что нам больше подходит, получается не сразу, а когда мы уже получили какой-то клиентский опыт, «сориентировались». Это тоже нормально: в школе мы ведь тоже не сразу поняли, как именно нам комфортнее учиться. Очень часто бывает и так, что интуитивно мы «попадаем» в то, что нам подходит. Но в любом случае, по мере того, как мы становимся чувствительнее к тому, что нам нужно, здорово это обсуждать со своим терапевтом).
А еще у нас могут быть разные ситуации и задачи. Кто-то хочет изменить свое внутреннее самоощущение, залечить какие-то внутренние раны, «отрастить» новые навыки, способы воспринимать, чувствовать, обрабатывать информацию, - ему подойдут долгосрочные психотерапевтические подходы. А кому-то нужно быстро решить локальную задачу (например, набраться смелости сдать экзамен) – и он будет рад, что есть краткосрочные консультативные подходы.
Кстати, существование такого количества разных подходов связано еще и с тем, что пока не знаем о психике всё. Разные направления в психологии – как разные взгляды на грани прекрасного, но очень замысловатого кристалла. Мы понимаем, что это кристалл, под любым углом видим его цвет и текстуру… но наша картинка отличается. Пока мы не знаем, можно ли эти кусочки картинки соединить, когда мы соберем достаточно кусочков пазла, или свойство этого кристалла в том, что одновременно смотреть можно только на одну его часть. При этом пройти из одной точки кристалла в другую можно по разным граням.
Представьте, что Вам нужно попасть из города А в город В. Но туда ведут несколько дорог. Одна –лесная тропинка, другая ведет через поля и луга, третья – через густонаселенные районы городов… Какую Вы выберете?
Возможно, по какой-то из них Вам будет идти сложнее, а по другой – легче.
А по какой-то – слишком страшно.
Разные подходы – как разные дороги.
А вот с многообразием стандартов все сложнее. Есть некоторый общепринятый «хороший тон» в профессии – этические правила и правила подготовки психологов, которые разделяют большинство ассоциаций. Для того, чтобы работать психотерапевтом, обязательно несколько лет подготовки, прохождение специализации в своем подходе, много часов своей психотерапии и супервизии. При этом даже опытные специалисты обязательно работают хотя бы под супервизией. В большинстве стран эти правила не регулируются законом, они регулируются профессиональными Ассоциациями, но, по сути, носят только рекомендательный характер, поэтому их соблюдение – вопрос личной добросовестности специалиста.
Я нормально отношусь к людям, помогающим другим после другой подготовки, но… то, что они делают - не психотерапия, а что-то другое, и хорошо, когда и они, и их клиенты это осознают, иначе это не очень безопасный процесс. И я считаю очень важным, чтобы в нашем обществе росла информированность об этих стандартах, чтобы клиенты «на входе» могли обратить внимание на важные моменты в подготовке своего специалиста. Это важно для нашей профессии, ведь даже из-за одного человека, который ведет корабль своего клиента «без руля и ветрил», многие люди могут побояться обращаться к психологу, и не получить необходимой помощи.
Я очень положительно отношусь к разным подходам в психологии. Благодаря им у клиентов существует выбор. Мы ведь действительно очень разные, и нам подходит разное. (Ведь здорово, что есть не только шпинат, но и помидоры, и даже мороженое?)
Разные психологические подходы работают при помощи разных инструментов. И это здорово. Помните, когда Вы учились – кому-то легче было запомнить при помощи картинок, кому-то – на слух, кому-то нужно было записать самому. Это связано с индивидуальными особенностями восприятия.
Психолог – тоже человек, поэтому у него тоже есть свои индивидуальные особенности. Да, психологам тоже могут больше подходить те или иные подходы. Мы выбираем, какими инструментами нам комфортнее работать, что у нас лучше получается.
А наши клиенты выбирают, что больше подходит им. (Часто размышлять о том, что нам больше подходит, получается не сразу, а когда мы уже получили какой-то клиентский опыт, «сориентировались». Это тоже нормально: в школе мы ведь тоже не сразу поняли, как именно нам комфортнее учиться. Очень часто бывает и так, что интуитивно мы «попадаем» в то, что нам подходит. Но в любом случае, по мере того, как мы становимся чувствительнее к тому, что нам нужно, здорово это обсуждать со своим терапевтом).
А еще у нас могут быть разные ситуации и задачи. Кто-то хочет изменить свое внутреннее самоощущение, залечить какие-то внутренние раны, «отрастить» новые навыки, способы воспринимать, чувствовать, обрабатывать информацию, - ему подойдут долгосрочные психотерапевтические подходы. А кому-то нужно быстро решить локальную задачу (например, набраться смелости сдать экзамен) – и он будет рад, что есть краткосрочные консультативные подходы.
Кстати, существование такого количества разных подходов связано еще и с тем, что пока не знаем о психике всё. Разные направления в психологии – как разные взгляды на грани прекрасного, но очень замысловатого кристалла. Мы понимаем, что это кристалл, под любым углом видим его цвет и текстуру… но наша картинка отличается. Пока мы не знаем, можно ли эти кусочки картинки соединить, когда мы соберем достаточно кусочков пазла, или свойство этого кристалла в том, что одновременно смотреть можно только на одну его часть. При этом пройти из одной точки кристалла в другую можно по разным граням.
Представьте, что Вам нужно попасть из города А в город В. Но туда ведут несколько дорог. Одна –лесная тропинка, другая ведет через поля и луга, третья – через густонаселенные районы городов… Какую Вы выберете?
Возможно, по какой-то из них Вам будет идти сложнее, а по другой – легче.
А по какой-то – слишком страшно.
Разные подходы – как разные дороги.
А вот с многообразием стандартов все сложнее. Есть некоторый общепринятый «хороший тон» в профессии – этические правила и правила подготовки психологов, которые разделяют большинство ассоциаций. Для того, чтобы работать психотерапевтом, обязательно несколько лет подготовки, прохождение специализации в своем подходе, много часов своей психотерапии и супервизии. При этом даже опытные специалисты обязательно работают хотя бы под супервизией. В большинстве стран эти правила не регулируются законом, они регулируются профессиональными Ассоциациями, но, по сути, носят только рекомендательный характер, поэтому их соблюдение – вопрос личной добросовестности специалиста.
Я нормально отношусь к людям, помогающим другим после другой подготовки, но… то, что они делают - не психотерапия, а что-то другое, и хорошо, когда и они, и их клиенты это осознают, иначе это не очень безопасный процесс. И я считаю очень важным, чтобы в нашем обществе росла информированность об этих стандартах, чтобы клиенты «на входе» могли обратить внимание на важные моменты в подготовке своего специалиста. Это важно для нашей профессии, ведь даже из-за одного человека, который ведет корабль своего клиента «без руля и ветрил», многие люди могут побояться обращаться к психологу, и не получить необходимой помощи.
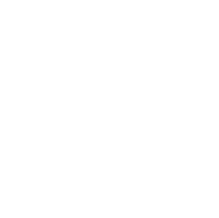
Моисейченко Анна, психоаналитический психотерапевт, ассоциированный член Московской психоаналитической ассоциации
Вопрос звучит словами: «мучительный, женатый, порочный». Боль, страдание, агрессия, злость, стыд. Все это изматывает. И, даже то, как сформулирован вопрос, как бы звучит: «Сил нет, истощение, отчаяние, разочарование». В голову, приходит: «треугольник Карпмана», ответственность, инфантильность, созависимость, мазохизм, «Эдипов конфликт», страх, триангулярность.
Для того, чтобы «выйти из порочного круга», потребуется понять бессознательные мотивы входа в «треугольник». Метод Киркорова: «И по кругу зачем бег… Если хочешь идти — иди…», если и сработает, то ненадолго. Особенность «порочных кругов» в том, что они так или иначе находят свою реализацию. И, если не осмыслить и не прожить иначе, тогда этот опыт, в том или ином виде, будет повторяться. Вы спрашиваете: «Как выйти из порочного круга», а я задаю себе вопрос: какой именно «порочный круг» вы имеете ввиду? И как вы там оказались? Искренние ответы на эти вопросы и соответственная проработка помогут не только выйти, но и не создавать впоследствии подобные формы отношений. Какие бессознательные мотивы пребывания в таких отношениях?
Отношения с женатым, так или иначе, обречены на страдания. В них невозможно быть в зрелых, близких отношениях. Все-таки, пара — это двое людей. Различные варианты «третьих» в отношениях не находятся в области зрелой любви. Мы можем выйти за пределы своих границ и слиться только с одним человеком («я у себя одна»), если людей трое/четверо/<…>, то каждому достается только какая-то часть, что делает невозможным существование полноценных отношений. Своего рода, фрагментарность. Верите ли вы, что у вас может быть своя семья?
Партнера мы выбираем по травме. Женатый мужчина — это недоступный мужчина. В зависимые отношения добровольно никто не вступает, есть причины. В отношениях с женатым легко оказаться в сценарии отказа от себя, интересе только на партнере, жажде встреч любым способом, в стремлении получить очередную «дозу». Но с каждым разом, как происходит и с наркотиком, эффект уже не тот, а воспоминание о первом «слиянии» заставляет повторять это снова и снова. «Порочный круг» — это и есть зависимость.
Такая любовь может восприниматься, как спасение, как средство избавления от боли, стресса, тяжелых ситуаций. Сбегание в мир иллюзий, уход от реальности, где «есть только ты и я», как способ заполнить пустоту. Обнаружить эту пустоту и иметь достаточно смелости, чтобы развернуться к себе, понять, что происходит внутри — создает возможность выйти из «порочного круга страданий». Это не означает, что страданий теперь не будет вообще, это жизнь, в ней есть место всему. От каких чувств и переживаний сбегаете в отношения с женатым?
Эти отношения, как бы, иллюзорные, скрытые, запретные, ненастоящие. Возможно, бессознательное желание любить без возможности иметь совместное будущее. Отношения без отношений, как возможный способ избегания развития жизни. Это может быть про страх ответственности, про сложности с доверием (партнер, которому невозможно до конца доверять), неопределенность. Своеобразная игра по правилам и иллюзия контроля. Что происходит внутри вас, если ради этого вам приходится «ломать» себя, играть в игры?
Если человек был втянут в «треугольник» в своей семейной системе, он будет так или иначе воссоздавать «треугольные» отношения. Для того, чтобы избежать напряжения в близком контакте и справляться с ним при помощи третьего. Психика стремится к исцелению, повторяя детскую травму в попытке наконец ее пережить. Ответственность и выбор — это категории взрослого человека. И порой нам нужны ресурсы для того, чтобы дорасти. Проработка детского незавершенного конфликта возможна в психотерапии. Не повторяете ли сценарий вашей семьи (родительской пары)?
Выйти из отношений с женатым мужчиной довольно сложно, как и из любых зависимых отношений. Этому препятствуют, в том числе, собственные страхи и сомнения. Есть ли у вас адекватная поддержка?
На что можно опираться первое время:
Вопрос звучит словами: «мучительный, женатый, порочный». Боль, страдание, агрессия, злость, стыд. Все это изматывает. И, даже то, как сформулирован вопрос, как бы звучит: «Сил нет, истощение, отчаяние, разочарование». В голову, приходит: «треугольник Карпмана», ответственность, инфантильность, созависимость, мазохизм, «Эдипов конфликт», страх, триангулярность.
Для того, чтобы «выйти из порочного круга», потребуется понять бессознательные мотивы входа в «треугольник». Метод Киркорова: «И по кругу зачем бег… Если хочешь идти — иди…», если и сработает, то ненадолго. Особенность «порочных кругов» в том, что они так или иначе находят свою реализацию. И, если не осмыслить и не прожить иначе, тогда этот опыт, в том или ином виде, будет повторяться. Вы спрашиваете: «Как выйти из порочного круга», а я задаю себе вопрос: какой именно «порочный круг» вы имеете ввиду? И как вы там оказались? Искренние ответы на эти вопросы и соответственная проработка помогут не только выйти, но и не создавать впоследствии подобные формы отношений. Какие бессознательные мотивы пребывания в таких отношениях?
Отношения с женатым, так или иначе, обречены на страдания. В них невозможно быть в зрелых, близких отношениях. Все-таки, пара — это двое людей. Различные варианты «третьих» в отношениях не находятся в области зрелой любви. Мы можем выйти за пределы своих границ и слиться только с одним человеком («я у себя одна»), если людей трое/четверо/<…>, то каждому достается только какая-то часть, что делает невозможным существование полноценных отношений. Своего рода, фрагментарность. Верите ли вы, что у вас может быть своя семья?
Партнера мы выбираем по травме. Женатый мужчина — это недоступный мужчина. В зависимые отношения добровольно никто не вступает, есть причины. В отношениях с женатым легко оказаться в сценарии отказа от себя, интересе только на партнере, жажде встреч любым способом, в стремлении получить очередную «дозу». Но с каждым разом, как происходит и с наркотиком, эффект уже не тот, а воспоминание о первом «слиянии» заставляет повторять это снова и снова. «Порочный круг» — это и есть зависимость.
Такая любовь может восприниматься, как спасение, как средство избавления от боли, стресса, тяжелых ситуаций. Сбегание в мир иллюзий, уход от реальности, где «есть только ты и я», как способ заполнить пустоту. Обнаружить эту пустоту и иметь достаточно смелости, чтобы развернуться к себе, понять, что происходит внутри — создает возможность выйти из «порочного круга страданий». Это не означает, что страданий теперь не будет вообще, это жизнь, в ней есть место всему. От каких чувств и переживаний сбегаете в отношения с женатым?
Эти отношения, как бы, иллюзорные, скрытые, запретные, ненастоящие. Возможно, бессознательное желание любить без возможности иметь совместное будущее. Отношения без отношений, как возможный способ избегания развития жизни. Это может быть про страх ответственности, про сложности с доверием (партнер, которому невозможно до конца доверять), неопределенность. Своеобразная игра по правилам и иллюзия контроля. Что происходит внутри вас, если ради этого вам приходится «ломать» себя, играть в игры?
Если человек был втянут в «треугольник» в своей семейной системе, он будет так или иначе воссоздавать «треугольные» отношения. Для того, чтобы избежать напряжения в близком контакте и справляться с ним при помощи третьего. Психика стремится к исцелению, повторяя детскую травму в попытке наконец ее пережить. Ответственность и выбор — это категории взрослого человека. И порой нам нужны ресурсы для того, чтобы дорасти. Проработка детского незавершенного конфликта возможна в психотерапии. Не повторяете ли сценарий вашей семьи (родительской пары)?
Выйти из отношений с женатым мужчиной довольно сложно, как и из любых зависимых отношений. Этому препятствуют, в том числе, собственные страхи и сомнения. Есть ли у вас адекватная поддержка?
На что можно опираться первое время:
- Перенаправить внимание на себя и свое развитие.
- Взять ответственность за свою жизнь.
- Отделить свою жизнь от жизни партнёра.
- Принять решение и следовать ему.
- Потребуется поддержка близких, если такой поддержки нет, а часто такие отношения могут быть тайными, то обратиться за поддержкой к психологу (можно за разовыми консультациями).
- Поговорить с партнером о том, чего хотите вы, чего хочет он, сопоставить ваши желания и реальность.
- Перестать себя обманывать.
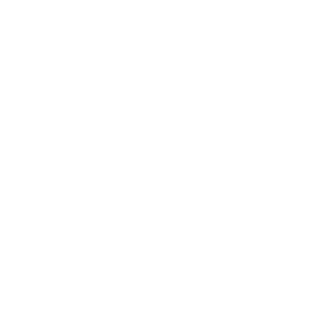
Мария Павлова, психотерапевт, преподаватель, супервизор
В интернете достаточно много тестов и опросников на выявление зависимости и созависимости. Можно также в интернете найти критерии в любом определении созависимости.
Мы все в какой-то степени созависимы. Люди существа социальные, а наказание в виде одиночной камеры ШИЗО — одно из самых мучительных. Наше настроение портится, когда страдают наши дети и возлюбленные. Это нормально.
Созависимость становится проблемой, когда собственная жизнь менее интересна, чем жизнь связанного с нами другого. Когда настроение и общее психологическое благополучие большую часть времени или всегда зависят от других. Когда трудно выдерживать, а тем более получать удовольствие от времени в одиночестве. Когда систематически сложно отвечать нет вопреки собственному благополучию. Когда переживания и мысли о том, что сказал другой (значимый человек), почему так посмотрел, почему не разговаривает, почему, почему, почему про Другого занимают все психическое пространство вместо размышлений и переживаний о своих поступках, мотивах и чувствах. Когда хорошее настроение мгновенно испаряется от одного неоднозначного взгляда.
Во всех таких случаях имеет смысл подумать о созависимости. Кроме периодов влюбленности!) Но влюбленность — это созависимость в дистиллированном виде!
В интернете достаточно много тестов и опросников на выявление зависимости и созависимости. Можно также в интернете найти критерии в любом определении созависимости.
Мы все в какой-то степени созависимы. Люди существа социальные, а наказание в виде одиночной камеры ШИЗО — одно из самых мучительных. Наше настроение портится, когда страдают наши дети и возлюбленные. Это нормально.
Созависимость становится проблемой, когда собственная жизнь менее интересна, чем жизнь связанного с нами другого. Когда настроение и общее психологическое благополучие большую часть времени или всегда зависят от других. Когда трудно выдерживать, а тем более получать удовольствие от времени в одиночестве. Когда систематически сложно отвечать нет вопреки собственному благополучию. Когда переживания и мысли о том, что сказал другой (значимый человек), почему так посмотрел, почему не разговаривает, почему, почему, почему про Другого занимают все психическое пространство вместо размышлений и переживаний о своих поступках, мотивах и чувствах. Когда хорошее настроение мгновенно испаряется от одного неоднозначного взгляда.
Во всех таких случаях имеет смысл подумать о созависимости. Кроме периодов влюбленности!) Но влюбленность — это созависимость в дистиллированном виде!
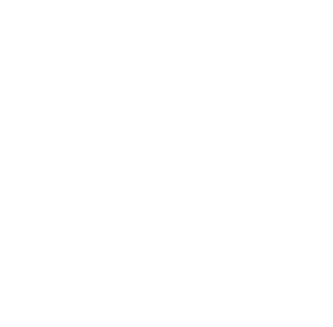
Елена Бочкарева, психолог, психотерапевт
Здравствуйте. Качество детства во многом зависит не от детей, младших или старших, оно зависит от родителей: мамы и папы. И если и предъявлять претензии, то это к ним — к родителям. Вот только что это изменит? Как сказанное сейчас «прости», услышанное от мамы, сможет изменить Вашу жизнь? Ведь и после этого «прости» все привычные Ваши паттерны поведения останутся, а чтобы они изменились Вам придется учиться новым способам поведения… И, возможно, Вам потому так трудно признавать что-то и просить прощенье, что и у Вас внутри есть дефицит теплоты, внимания и любви от родителей, и Вы себя изнутри воспринимаете скорее как «потерпевшую» сторону, чем «нападающую»…
Может вам с сестрой сесть вместе за стол и поговорить о том, как непросто вам обеим было порой в вашем детском мире, что каждой из вас не хватило присутствия рядом взрослого, способного утешить и поддержать… А сейчас вы сможете утешить и поддержать друг друга.
Здравствуйте. Качество детства во многом зависит не от детей, младших или старших, оно зависит от родителей: мамы и папы. И если и предъявлять претензии, то это к ним — к родителям. Вот только что это изменит? Как сказанное сейчас «прости», услышанное от мамы, сможет изменить Вашу жизнь? Ведь и после этого «прости» все привычные Ваши паттерны поведения останутся, а чтобы они изменились Вам придется учиться новым способам поведения… И, возможно, Вам потому так трудно признавать что-то и просить прощенье, что и у Вас внутри есть дефицит теплоты, внимания и любви от родителей, и Вы себя изнутри воспринимаете скорее как «потерпевшую» сторону, чем «нападающую»…
Может вам с сестрой сесть вместе за стол и поговорить о том, как непросто вам обеим было порой в вашем детском мире, что каждой из вас не хватило присутствия рядом взрослого, способного утешить и поддержать… А сейчас вы сможете утешить и поддержать друг друга.
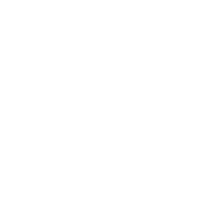
Екатерина Бойкова, психолог-консультант, психотерапевт
В теории сами по себе правила отношений просты. Но вот люди, включенные в эти отношения, порой без причины склонны усложнять и создавать трудности в совместной жизни. Думается мне, это связано с тем, что в начале отношений многим кажется, будто все сложится само. Мы наслаждаемся тем, что есть, и думаем, что так будет всегда. Но рано или поздно наступает момент, требующий нашего непосредственного участия.
Конечно же, у каждой счастливой пары будет свой «идеальный» формат взаимодействия, но, тем не менее, хочу предложить вам несколько простых правил, придерживаясь которых шансы на крепкие и надежные отношения увеличатся.
Начну с самого простого правила.
СОВМЕСТНЫЙ ДОСУГ
Досуг должен быть интересен двоим. Это может быть общее увлечение, когда вы вместе куда-то ходите, что-то смотрите, обсуждаете и делитесь впечатлениями. Это некое общее пространство, в котором интересно и комфортно двоим, и время, проведенное вместе, вас взаимо-обогащает. Причем досуг не отменяет отдельные интересы каждого.
ДОВЕРИЕ
Доверие — очень важный опорный пункт и хороший показатель отношений в паре. Если так сложилось, что у вас был опыт отношений, который оказался неудачным, тем не менее старайтесь видеть перед собой живого человека, а не свои прошлые тревоги и страхи. Не мучайте друг друга подозрительностью. Тревожные фантазии можно проверять. Пустите партнера на какое-то время в ваше личное пространство: соцсети, СМС, звонки. Если вы честны перед близким человеком, то скрывать вам нечего, а партнеру такой шаг навстречу поможет успокоиться, больше вам довериться. Со временем такие проверки будут не нужны, а доверие в паре будет сохранено.
ИНТЕРЕС К ЛИЧНОСТИ ПАРТНЕРА
Чем увлекается, что важно для него, что может быть критично, а что не важно. Иными словами, интерес к истории человека. Будьте готовы к тому, что со временем вы с партнером будете меняться — и это здОрово! Благодаря этому близкие люди могут друг друга познавать всю жизнь, открывать новые ощущения, смыслы и чувства.
БЕЗОПАСНОСТЬ В ОТНОШЕНИЯХ
Это про то, когда каждый в паре может спокойно и безопасно раскрывать свои тревоги, желания, сомнения без страха быть осмеянным, униженным или наказанным. И если у одного партнера случилась регрессия или же, говоря бытовым языком, одного «накрыло», другой — поддерживает. И наоборот тот, кто поддерживал, в свою очередь также имеет право на понимание и заботу, когда столкнется со своими слабостями.
СЕКСУАЛЬНОСТЬ
Под сексуальностью подразумевается не только секс. Ведь сексуальность начинается раньше, чем сексуальные контакты, и заканчивается позже. Не забывайте о том, что сексуальность может распространяться и за пределы постели. Флирт, шутливость, игривость — прекрасный способ показать партнеру свою любовь и сохранить интерес друг к другу.
В заключение, хочу сказать, что даже в лучших отношениях иногда бывает больно. Иногда мы раним друг друга потому лишь, что мы живые люди. И очень важно чтобы в близких отношениях было место не только ранению и страданиям, но и исцелению.
В теории сами по себе правила отношений просты. Но вот люди, включенные в эти отношения, порой без причины склонны усложнять и создавать трудности в совместной жизни. Думается мне, это связано с тем, что в начале отношений многим кажется, будто все сложится само. Мы наслаждаемся тем, что есть, и думаем, что так будет всегда. Но рано или поздно наступает момент, требующий нашего непосредственного участия.
Конечно же, у каждой счастливой пары будет свой «идеальный» формат взаимодействия, но, тем не менее, хочу предложить вам несколько простых правил, придерживаясь которых шансы на крепкие и надежные отношения увеличатся.
Начну с самого простого правила.
СОВМЕСТНЫЙ ДОСУГ
Досуг должен быть интересен двоим. Это может быть общее увлечение, когда вы вместе куда-то ходите, что-то смотрите, обсуждаете и делитесь впечатлениями. Это некое общее пространство, в котором интересно и комфортно двоим, и время, проведенное вместе, вас взаимо-обогащает. Причем досуг не отменяет отдельные интересы каждого.
ДОВЕРИЕ
Доверие — очень важный опорный пункт и хороший показатель отношений в паре. Если так сложилось, что у вас был опыт отношений, который оказался неудачным, тем не менее старайтесь видеть перед собой живого человека, а не свои прошлые тревоги и страхи. Не мучайте друг друга подозрительностью. Тревожные фантазии можно проверять. Пустите партнера на какое-то время в ваше личное пространство: соцсети, СМС, звонки. Если вы честны перед близким человеком, то скрывать вам нечего, а партнеру такой шаг навстречу поможет успокоиться, больше вам довериться. Со временем такие проверки будут не нужны, а доверие в паре будет сохранено.
ИНТЕРЕС К ЛИЧНОСТИ ПАРТНЕРА
Чем увлекается, что важно для него, что может быть критично, а что не важно. Иными словами, интерес к истории человека. Будьте готовы к тому, что со временем вы с партнером будете меняться — и это здОрово! Благодаря этому близкие люди могут друг друга познавать всю жизнь, открывать новые ощущения, смыслы и чувства.
БЕЗОПАСНОСТЬ В ОТНОШЕНИЯХ
Это про то, когда каждый в паре может спокойно и безопасно раскрывать свои тревоги, желания, сомнения без страха быть осмеянным, униженным или наказанным. И если у одного партнера случилась регрессия или же, говоря бытовым языком, одного «накрыло», другой — поддерживает. И наоборот тот, кто поддерживал, в свою очередь также имеет право на понимание и заботу, когда столкнется со своими слабостями.
СЕКСУАЛЬНОСТЬ
Под сексуальностью подразумевается не только секс. Ведь сексуальность начинается раньше, чем сексуальные контакты, и заканчивается позже. Не забывайте о том, что сексуальность может распространяться и за пределы постели. Флирт, шутливость, игривость — прекрасный способ показать партнеру свою любовь и сохранить интерес друг к другу.
В заключение, хочу сказать, что даже в лучших отношениях иногда бывает больно. Иногда мы раним друг друга потому лишь, что мы живые люди. И очень важно чтобы в близких отношениях было место не только ранению и страданиям, но и исцелению.
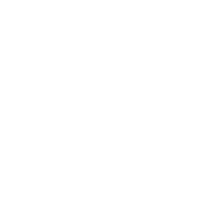
Анна Моисейченко, психолог-консультант, психотерапевт
Можно догадываться в контексте чего была утрачена уверенность в завтрашнем дне. Вероятно, в связи с происходящим в мире, в стране, в семье. Утрата, недостаток материальных ресурсов тоже могут способствовать данному запросу.
Наличие в жизни практик может помогать поддерживать себя. «Мир рушится, но завтра, как и сегодня, я пойду бегать». Или делать дыхательные практики, медитировать, писать, убираться. Суть практики в ее доступности. Требуется тело и определенная техника. Повторяющееся действие может обеспечивать некую стабильность.
Предлагаю поговорить о смыслах и тревоге. Потому, что именно тревога вынуждает искать способы защиты, в том числе, в виде ритуалов и практик.
Уверенность в завтрашнем дне, своего рода, иллюзия контроля, которая позволяла не думать о том, что мир не структурирован, хаотичен, и, в нем нет гарантий. Усталость, отсутствие ресурса могут быть связаны с тревогой неизвестности, неопределенности. Будто, невозможно произвести захват, как младенец не может взять грудь, когда мамы нет рядом. Что-то привычное утрачено, а новое еще не появилось или не подразумевает надежности.
Когда завершается какой-либо жизненный период и наступает новый, нормально чувствовать тревогу. Прощаясь с чем-то привычным, будут возникать разные сложные чувства. Важно переживать их и проделывать внутреннюю работу. Не отрицать происходящее. И это не о том, что нужно научиться легко отпускать. Проблемы возникают тогда, когда не можем говорить о чувствах.
В такие периоды можем не только отрицать или диссоциировать чувства, но уходить в маниакальные защиты. Начинать что-то практиковать, с одной стороны, выглядит как поддержка, с другой, как попытка сбежать от чувств. Быть продуктивными, что-то делать, радоваться новому — это проживать только часть чувств. Маниакальные защиты реализуют желание, чтобы все было на своих местах, как прежде или лучше, и никак иначе, поддерживая иллюзию всемогущества. Не позволяя чувствовать то, что адекватно возникает в ответ на происходящее. Так или иначе, психика будет искать способ пережить то, что не удалось пережить. Нет правильных или неправильных чувств, позволить сложным чувствам быть.
«Быть в ресурсе» помогают не практики, на них тоже нужен ресурс. Похоже на попытку с помощью практик контролировать ресурс, время, жизнь, вселенную. И, если говорить о практиках, то это не про мгновенный эффект. Практика подразумевает дисциплину, регулярность, ответственный подход и длительность во времени.
Тревога подталкивает на поиск надежной системы, на которую можно было бы опереться, как на костыль. Возможно, связано с потерей опоры, которая перестала существовать. В реальности мир случаен, непредсказуем, не линеен. И, предлагается множество соблазнительных методов, основанных на «магическом мышлении», которые, как бы, делают мир простым и понятным. «Магическое мышление» позволяет избегать тревогу, которая часто связана с неосознаваемыми чувствами. Конечно, проще и заманчивее, сделать «магический ритуал» по воздействию на вселенную. Но взрослый (психически зрелый) человек способен опираться на себя и выдерживать актуальную реальность, хотя это порой совсем не просто. Превращение удовольствия в ритуалы лишает тех ресурсов, которые можно получать от спонтанного действия.
Рекомендации и практики:
1. Попытаться признать, осмыслить и интегрировать тревожные чувства. Что-то было утрачено, возможно, навсегда, это горько и больно осознавать. Дать этому место и время. Требуется выразить чувства, скорректировать представления о мире, в котором есть место и «такому».
2. В периоды отчаяния, потери смысла одним из способов поддержки, может быть чтение литературы, где автор делиться опытом проживания травматичного опыта (возможно, более масштабного, ужасающего). Например, Э. Эгер: «Выбор», В. Франкл: «Сказать жизни: Да!».
3. Забота о телесности (сон, питание, режим дня, физ. активность, чекап организма). Заниматься тем, что приносит удовольствие, развивать гибкость, выносливость, терпимость. Важно не само действие, а подход к нему. Развивать интерес.
4. Делать что-то не только для себя и близкого окружения (благотворительность, сбор мусора, посадка деревьев, цветов, физическая помощь пожилым, приютам, хосписам). «Человеческое добро присутствует во всех группах, даже в тех, которые в целом заслуживают осуждения». (В. Франкл)
5. Здесь и сейчас. Все, что позволяет почувствовать себя в настоящем моменте. Письменные практики (дневники, списки дел, благодарности, итоги дня), медитации, телесные, дыхательные, духовные практики. Ощущение тела позволяет ощутить и границы личности. Созерцание. Пробовать что-то новое каждый день.
6. Кризисы, резкое изменение обстоятельств — это время, чтобы провести ревизию в материальной и духовной жизни, пересмотреть ценности и ориентиры. Отказаться от того, что не подходит, не актуально. Вспомнить то, что откладывали на потом.
7. Время замедлиться, перейти в режим энергосбережения. Ищем способы дополнительного источника ресурса и не осознаем куда уходит наш «базовый ресурс». Заботиться о том, что есть. Для какого дела нужны силы?
8. Отношения — это ресурс. Возможность получать поддержку, выражать агрессию. Сообщества и клубы по интересам. Друзья и соц. контакты. Не исключать временную изоляцию и возможность побыть наедине с собой.
9. Выражение чувств через творчество (искусство, кино, книги, тактильная работа, задействующая мелкую моторику).
Не практики создают нашу жизнь и ресурс, а мы сами. Наше отношение к жизни, как к ценности, наши действия, способность любить и быть в близких отношениях. Желание обратиться к практикам — это желание найти новые внешние опоры. Предлагаю искать что-то более устойчивое, что-то, что есть внутри, что можно взращивать. Все меняется и все заканчивается. Сохранить себя и свою жизнь — уже хорошо.
Можно догадываться в контексте чего была утрачена уверенность в завтрашнем дне. Вероятно, в связи с происходящим в мире, в стране, в семье. Утрата, недостаток материальных ресурсов тоже могут способствовать данному запросу.
Наличие в жизни практик может помогать поддерживать себя. «Мир рушится, но завтра, как и сегодня, я пойду бегать». Или делать дыхательные практики, медитировать, писать, убираться. Суть практики в ее доступности. Требуется тело и определенная техника. Повторяющееся действие может обеспечивать некую стабильность.
Предлагаю поговорить о смыслах и тревоге. Потому, что именно тревога вынуждает искать способы защиты, в том числе, в виде ритуалов и практик.
Уверенность в завтрашнем дне, своего рода, иллюзия контроля, которая позволяла не думать о том, что мир не структурирован, хаотичен, и, в нем нет гарантий. Усталость, отсутствие ресурса могут быть связаны с тревогой неизвестности, неопределенности. Будто, невозможно произвести захват, как младенец не может взять грудь, когда мамы нет рядом. Что-то привычное утрачено, а новое еще не появилось или не подразумевает надежности.
Когда завершается какой-либо жизненный период и наступает новый, нормально чувствовать тревогу. Прощаясь с чем-то привычным, будут возникать разные сложные чувства. Важно переживать их и проделывать внутреннюю работу. Не отрицать происходящее. И это не о том, что нужно научиться легко отпускать. Проблемы возникают тогда, когда не можем говорить о чувствах.
В такие периоды можем не только отрицать или диссоциировать чувства, но уходить в маниакальные защиты. Начинать что-то практиковать, с одной стороны, выглядит как поддержка, с другой, как попытка сбежать от чувств. Быть продуктивными, что-то делать, радоваться новому — это проживать только часть чувств. Маниакальные защиты реализуют желание, чтобы все было на своих местах, как прежде или лучше, и никак иначе, поддерживая иллюзию всемогущества. Не позволяя чувствовать то, что адекватно возникает в ответ на происходящее. Так или иначе, психика будет искать способ пережить то, что не удалось пережить. Нет правильных или неправильных чувств, позволить сложным чувствам быть.
«Быть в ресурсе» помогают не практики, на них тоже нужен ресурс. Похоже на попытку с помощью практик контролировать ресурс, время, жизнь, вселенную. И, если говорить о практиках, то это не про мгновенный эффект. Практика подразумевает дисциплину, регулярность, ответственный подход и длительность во времени.
Тревога подталкивает на поиск надежной системы, на которую можно было бы опереться, как на костыль. Возможно, связано с потерей опоры, которая перестала существовать. В реальности мир случаен, непредсказуем, не линеен. И, предлагается множество соблазнительных методов, основанных на «магическом мышлении», которые, как бы, делают мир простым и понятным. «Магическое мышление» позволяет избегать тревогу, которая часто связана с неосознаваемыми чувствами. Конечно, проще и заманчивее, сделать «магический ритуал» по воздействию на вселенную. Но взрослый (психически зрелый) человек способен опираться на себя и выдерживать актуальную реальность, хотя это порой совсем не просто. Превращение удовольствия в ритуалы лишает тех ресурсов, которые можно получать от спонтанного действия.
Рекомендации и практики:
1. Попытаться признать, осмыслить и интегрировать тревожные чувства. Что-то было утрачено, возможно, навсегда, это горько и больно осознавать. Дать этому место и время. Требуется выразить чувства, скорректировать представления о мире, в котором есть место и «такому».
2. В периоды отчаяния, потери смысла одним из способов поддержки, может быть чтение литературы, где автор делиться опытом проживания травматичного опыта (возможно, более масштабного, ужасающего). Например, Э. Эгер: «Выбор», В. Франкл: «Сказать жизни: Да!».
3. Забота о телесности (сон, питание, режим дня, физ. активность, чекап организма). Заниматься тем, что приносит удовольствие, развивать гибкость, выносливость, терпимость. Важно не само действие, а подход к нему. Развивать интерес.
4. Делать что-то не только для себя и близкого окружения (благотворительность, сбор мусора, посадка деревьев, цветов, физическая помощь пожилым, приютам, хосписам). «Человеческое добро присутствует во всех группах, даже в тех, которые в целом заслуживают осуждения». (В. Франкл)
5. Здесь и сейчас. Все, что позволяет почувствовать себя в настоящем моменте. Письменные практики (дневники, списки дел, благодарности, итоги дня), медитации, телесные, дыхательные, духовные практики. Ощущение тела позволяет ощутить и границы личности. Созерцание. Пробовать что-то новое каждый день.
6. Кризисы, резкое изменение обстоятельств — это время, чтобы провести ревизию в материальной и духовной жизни, пересмотреть ценности и ориентиры. Отказаться от того, что не подходит, не актуально. Вспомнить то, что откладывали на потом.
7. Время замедлиться, перейти в режим энергосбережения. Ищем способы дополнительного источника ресурса и не осознаем куда уходит наш «базовый ресурс». Заботиться о том, что есть. Для какого дела нужны силы?
8. Отношения — это ресурс. Возможность получать поддержку, выражать агрессию. Сообщества и клубы по интересам. Друзья и соц. контакты. Не исключать временную изоляцию и возможность побыть наедине с собой.
9. Выражение чувств через творчество (искусство, кино, книги, тактильная работа, задействующая мелкую моторику).
Не практики создают нашу жизнь и ресурс, а мы сами. Наше отношение к жизни, как к ценности, наши действия, способность любить и быть в близких отношениях. Желание обратиться к практикам — это желание найти новые внешние опоры. Предлагаю искать что-то более устойчивое, что-то, что есть внутри, что можно взращивать. Все меняется и все заканчивается. Сохранить себя и свою жизнь — уже хорошо.
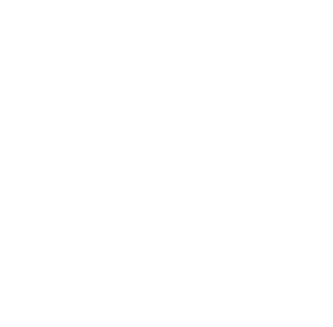
Елена Бочкарева, психолог, психотерапевт
Отвечая на этот вопрос, я делаю предположение, что вопрос задает специалист-психолог. Избирательный отказ от речи (другими словами — элективный мутизм) — это не такое уж редкое явление среди поведенческих реакций детей дошкольного возраста. Довольно часто это является формой пассивного протеста на какое-то хроническое неблагополучие ребенка.
Для того, чтобы исследовать патогенез симптома важно, с одной стороны, получить полную картину происходящего глазами родителей ребенка; с другой стороны — расспросить о симптомах воспитателей дошкольного учреждения. Нас интересует: когда появился симптом, какие события предшествовали появлению симптома, как именно симптом проявляется, есть ли избирательность по дням недели, предпочтения воспитателей (с кем-то говорит шепотом, с кем-то молчит)…
И так же важно получить информацию от самого ребенка. Ведь говорить он может не только словами, ребенок может многое рассказать о себе и своем состоянии через рисунки, метафорические карты, игры с песком или марионетками… Важно, чтобы ребенок в контакте с психологом, чувствовал искренность психолога-человека, а не только интерес психолога-диагноста.
Можно прямо сказать ребенку: «Я беспокоюсь, что ты не можешь разговаривать с другими детьми и взрослыми в детском саду. Я хочу помочь тебе. И очень прошу тебя помочь мне понять, как лучше всего я смогу быть тебе полезным».
Отвечая на этот вопрос, я делаю предположение, что вопрос задает специалист-психолог. Избирательный отказ от речи (другими словами — элективный мутизм) — это не такое уж редкое явление среди поведенческих реакций детей дошкольного возраста. Довольно часто это является формой пассивного протеста на какое-то хроническое неблагополучие ребенка.
Для того, чтобы исследовать патогенез симптома важно, с одной стороны, получить полную картину происходящего глазами родителей ребенка; с другой стороны — расспросить о симптомах воспитателей дошкольного учреждения. Нас интересует: когда появился симптом, какие события предшествовали появлению симптома, как именно симптом проявляется, есть ли избирательность по дням недели, предпочтения воспитателей (с кем-то говорит шепотом, с кем-то молчит)…
И так же важно получить информацию от самого ребенка. Ведь говорить он может не только словами, ребенок может многое рассказать о себе и своем состоянии через рисунки, метафорические карты, игры с песком или марионетками… Важно, чтобы ребенок в контакте с психологом, чувствовал искренность психолога-человека, а не только интерес психолога-диагноста.
Можно прямо сказать ребенку: «Я беспокоюсь, что ты не можешь разговаривать с другими детьми и взрослыми в детском саду. Я хочу помочь тебе. И очень прошу тебя помочь мне понять, как лучше всего я смогу быть тебе полезным».
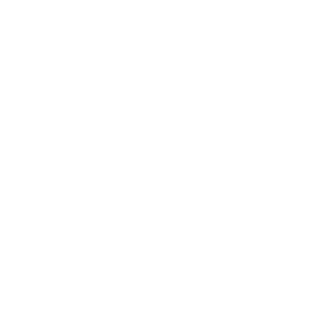
Мария Павлова, психотерапевт, преподаватель, супервизор
Очень актуальный и очень обширный вопрос. Не возьму на себя смелость ответить всеобъемлюще. Поделюсь некоторыми размышлениями, к которым вопрос меня подвел.
Первая и самая простая рекомендация — обратиться за помощью к супервизору с большим опытом ведения групп. И в менее тяжелых обстоятельствах поддержка старшего коллеги полезна, но в обстоятельствах длящейся общей травмы, в которой находится по умолчанию и ведущий терапевтической группы, справляться с объемом психической нагрузки в одиночку — не только ненужный героизм, но и дорога к обесцениванию себя и своей профессии, выгоранию, а помощь супервизора становится бесценной.
Мне кажется, иметь собственные переживание и собственное мнение, хотеть встать на чью-то сторону и принадлежать к определенной группе, это неотъемлемая данность психической жизни и право любой личности. Мы столкнулись не с бытовыми сложностями рутинной жизни, но с обстоятельствами, которые затрагивают жизни, здоровье и безопасность огромного количества людей, вызывают тревогу за завтрашний день, чувства беспомощности и неопределенности.
Понимать свои чувства в связи с событиями, иметь свое мнение — это точка устойчивости, попытка обрести что-то определенное внутри себя, когда все вокруг неопределенно. В этой данности находятся и участники терапевтической группы и сам терапевт. Соблазн терапевта присоединиться, занять одну из сторон конфликта мнений огромен, это стремление снизить внутрипсихическое напряжение. В силу своей позиции ведущего группы терапевт должен выдерживать этот внутренний конфликт, не надеясь на его облегчение, по крайней мере в ходе участия в группе. Энергия этого конфликта может быть в том числе направлена на поддержание правил группы, прежде всего правила психологической безопасности и границ, поддержание права каждого участника группы высказываться о своих переживаниях и мнении, не подвергаясь наказанию или осуждению. Это большая и трудная работа, которая со временем может быть с пользой утилизирована в группе через размышления о противоречиях, непохожести, возможности выдерживать Другого с его отличиями. Это дорога к миру в одной конкретной группе, и дорога эта займет время. Задача терапевта не примирить участников или себя с участниками группы, но создать условия, в которых группа начнет искать эту дорогу.
И, наконец, несколько слов о нейтральности. Мы все понимаем на современном этапе, что нейтральность это не бесчувствие и не маска безразличия. Это способность терапевта не вносить свои конфликты, переживания и позицию по предмету спора в психический процесс группы без осмысления этого материала и без понимания в моменте, поможет ли такое внесение процессу группы. Такая позиция требует больших усилий и большой работы терапевта в своей личной терапии и в сотрудничестве с супервизором, она опирается на опыт сомнений и ошибок, требует времени и ранит разочарованиями. В конце концов, терапевты это обычные люди в необычной профессии. Удачи!
Очень актуальный и очень обширный вопрос. Не возьму на себя смелость ответить всеобъемлюще. Поделюсь некоторыми размышлениями, к которым вопрос меня подвел.
Первая и самая простая рекомендация — обратиться за помощью к супервизору с большим опытом ведения групп. И в менее тяжелых обстоятельствах поддержка старшего коллеги полезна, но в обстоятельствах длящейся общей травмы, в которой находится по умолчанию и ведущий терапевтической группы, справляться с объемом психической нагрузки в одиночку — не только ненужный героизм, но и дорога к обесцениванию себя и своей профессии, выгоранию, а помощь супервизора становится бесценной.
Мне кажется, иметь собственные переживание и собственное мнение, хотеть встать на чью-то сторону и принадлежать к определенной группе, это неотъемлемая данность психической жизни и право любой личности. Мы столкнулись не с бытовыми сложностями рутинной жизни, но с обстоятельствами, которые затрагивают жизни, здоровье и безопасность огромного количества людей, вызывают тревогу за завтрашний день, чувства беспомощности и неопределенности.
Понимать свои чувства в связи с событиями, иметь свое мнение — это точка устойчивости, попытка обрести что-то определенное внутри себя, когда все вокруг неопределенно. В этой данности находятся и участники терапевтической группы и сам терапевт. Соблазн терапевта присоединиться, занять одну из сторон конфликта мнений огромен, это стремление снизить внутрипсихическое напряжение. В силу своей позиции ведущего группы терапевт должен выдерживать этот внутренний конфликт, не надеясь на его облегчение, по крайней мере в ходе участия в группе. Энергия этого конфликта может быть в том числе направлена на поддержание правил группы, прежде всего правила психологической безопасности и границ, поддержание права каждого участника группы высказываться о своих переживаниях и мнении, не подвергаясь наказанию или осуждению. Это большая и трудная работа, которая со временем может быть с пользой утилизирована в группе через размышления о противоречиях, непохожести, возможности выдерживать Другого с его отличиями. Это дорога к миру в одной конкретной группе, и дорога эта займет время. Задача терапевта не примирить участников или себя с участниками группы, но создать условия, в которых группа начнет искать эту дорогу.
И, наконец, несколько слов о нейтральности. Мы все понимаем на современном этапе, что нейтральность это не бесчувствие и не маска безразличия. Это способность терапевта не вносить свои конфликты, переживания и позицию по предмету спора в психический процесс группы без осмысления этого материала и без понимания в моменте, поможет ли такое внесение процессу группы. Такая позиция требует больших усилий и большой работы терапевта в своей личной терапии и в сотрудничестве с супервизором, она опирается на опыт сомнений и ошибок, требует времени и ранит разочарованиями. В конце концов, терапевты это обычные люди в необычной профессии. Удачи!
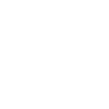
Ирина Млодик, детский психолог, экзистенциальный психотерапевт
1. Проверьте себя: не испытываете ли вы какой-то вины перед ребенком? Иногда от родительской вины дети ощущают себя пострадавшими и страдают. Если испытываете, попросите прощения или сходите к психологу: есть ли основания для вашей вины или она невротическая.
2. Детям иногда трудно отрефлексировать и сформулировать их страдание, мучение или дискомфорт. Пока они сами не понимают, не могут и перестать страдать. Помогите найти внутреннее мучение и помочь, даже если вам это кажется сущим пустяком.
3. Подумайте над тем, какие бонусы может получать страдающий ребенок.
1. Проверьте себя: не испытываете ли вы какой-то вины перед ребенком? Иногда от родительской вины дети ощущают себя пострадавшими и страдают. Если испытываете, попросите прощения или сходите к психологу: есть ли основания для вашей вины или она невротическая.
2. Детям иногда трудно отрефлексировать и сформулировать их страдание, мучение или дискомфорт. Пока они сами не понимают, не могут и перестать страдать. Помогите найти внутреннее мучение и помочь, даже если вам это кажется сущим пустяком.
3. Подумайте над тем, какие бонусы может получать страдающий ребенок.
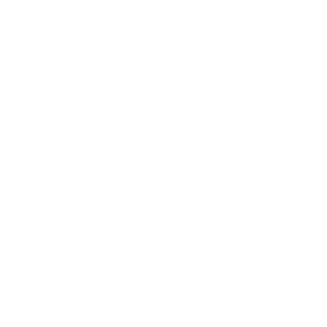
Екатерина Стеблина, детский психолог, экзистенциальный терапевт
Каждый день, проведенный рядом с мамой и папой, — очень важен для физического и психического развития малыша.
Что же делать, если родителям необходимо доверить свое дитя другим людям? Хорошо, если в детском саду, который вы выбрали, бережно адаптируют деток к новым условиям жизни, учитывая индивидуальные особенности.
Вот некоторые принципы, соблюдая которые, все участники процесса (дети, родители, воспитатели), смогут быть максимально полезны друг для друга.
Во-первых, важно, чтобы родители потратили время, чтобы познакомить ребенка с новым помещением и новыми людьми. Тогда малышу будет не так страшно оставаться в саду, он будет знать, что тут была мама и сможет опереться на этот опыт. Особенно хорошо на адаптации сказывается посещение малышом «развивашки», групп раннего развития, где вместе с мамой и другими детками он играл, пел песенки, проводил время.
Во-вторых, родителю важно постепенно знакомить ребенка с воспитателем группы и другими детьми, не настаивая, не принуждая его к общению или контакту с теми, кого ребенок еще не успел узнать настолько, чтобы довериться. Например, можно приходить на прогулку к детям той группы, куда поступит ребенок.
В-третьих, ребенок, пришедший на адаптацию, имеет свои привычки и особенности, свой темп и мироощущение, поэтому важно дать ребенку выразить себя так, как он это уже умеет, а только потом ассимилировать этот опыт в канву жизни сада. Малышу нужно время!
В-четвертых, важно не совмещать с адаптацией такие процессы как отучение от соски, откладывание на ночной сон в свою кровать (если Вы раньше этого не делали), приучение к горшку и т. д. Помните, в период адаптации ребенок тратит много психических сил на этот процесс, поэтому его нужно поддержать и максимально сохранить его прежние привычки. А все эти задачи решать постепенно, когда уже ребенок привык к своей новой роли воспитанника детского сада.
В-пятых, адаптация может быть неравномерной — и это нормально. Ребенок может увлечься детьми и игрушками и остаться в саду в первый же день, но через неделю, например, может начать испытывать сложности при расставании с мамой, это происходит оттого, что он наконец-то понял и осознал, что что-то изменилось.
Этого не надо бояться. В это время малышу нужна поддержка взрослого, ведь это так тревожно и трудно, оставаться без родителей целый день. Родителю в этот период важно подтверждать свою надежную привязанность с ребенком. Это можно делать через слова, сказки и игры.
Шестое. Успешное привыкание ребенка к саду происходит и за счет внимательных, заботливых, эмпатичных воспитателей, которые сопровождают ребенка в этом непростом периоде и оказывают ему такую нужную и необходимую эмоциональную поддержку. Чувства ребенка принимаются и уважаются. Малыш может их проживать полноценно,
опираясь на понимающего взрослого рядом, а значит не травмируется и получает качественный опыт вхождения в коллектив сверстников уже с ранних лет. Очень важен взрослый рядом, который может выдержать слезы ребенка, его грусть, способен утешить.
Ошибки взрослых, которые затягивают процесс адаптации:
— манипуляции и запугивания (Если не перестанешь плакать, я за тобой не приду),
— запрет на чувства (посмотри, другие дети не плачут),
— обман (иди просто посмотри игрушки- а сами убегают, чтоб ребенок не видел),
— отвлечение разными способами ребенка от его переживаний и т. д.
Сложно говорить о сроках, когда имеем дело с адаптацией, т. к. это очень
индивидуальный процесс. В среднем она длится от одного дня до нескольких месяцев. Сроки зависят от предыдущего опыта ребенка (был ли опыт посещения сада, насколько успешный) и личностных особенностей (темперамента, зрелости нервной системы, привязанности к маме), а также от семейной ситуации в целом.
Иногда адаптация бывает невозможна из-за трудностей сепарации родителя с ребенком, тогда лучше обратиться за помощью к психологу, чтобы через работу с родительской травмой, мешающей развитию и взрослению ребенка, помочь и облегчить ситуацию.
Каждый день, проведенный рядом с мамой и папой, — очень важен для физического и психического развития малыша.
Что же делать, если родителям необходимо доверить свое дитя другим людям? Хорошо, если в детском саду, который вы выбрали, бережно адаптируют деток к новым условиям жизни, учитывая индивидуальные особенности.
Вот некоторые принципы, соблюдая которые, все участники процесса (дети, родители, воспитатели), смогут быть максимально полезны друг для друга.
Во-первых, важно, чтобы родители потратили время, чтобы познакомить ребенка с новым помещением и новыми людьми. Тогда малышу будет не так страшно оставаться в саду, он будет знать, что тут была мама и сможет опереться на этот опыт. Особенно хорошо на адаптации сказывается посещение малышом «развивашки», групп раннего развития, где вместе с мамой и другими детками он играл, пел песенки, проводил время.
Во-вторых, родителю важно постепенно знакомить ребенка с воспитателем группы и другими детьми, не настаивая, не принуждая его к общению или контакту с теми, кого ребенок еще не успел узнать настолько, чтобы довериться. Например, можно приходить на прогулку к детям той группы, куда поступит ребенок.
В-третьих, ребенок, пришедший на адаптацию, имеет свои привычки и особенности, свой темп и мироощущение, поэтому важно дать ребенку выразить себя так, как он это уже умеет, а только потом ассимилировать этот опыт в канву жизни сада. Малышу нужно время!
В-четвертых, важно не совмещать с адаптацией такие процессы как отучение от соски, откладывание на ночной сон в свою кровать (если Вы раньше этого не делали), приучение к горшку и т. д. Помните, в период адаптации ребенок тратит много психических сил на этот процесс, поэтому его нужно поддержать и максимально сохранить его прежние привычки. А все эти задачи решать постепенно, когда уже ребенок привык к своей новой роли воспитанника детского сада.
В-пятых, адаптация может быть неравномерной — и это нормально. Ребенок может увлечься детьми и игрушками и остаться в саду в первый же день, но через неделю, например, может начать испытывать сложности при расставании с мамой, это происходит оттого, что он наконец-то понял и осознал, что что-то изменилось.
Этого не надо бояться. В это время малышу нужна поддержка взрослого, ведь это так тревожно и трудно, оставаться без родителей целый день. Родителю в этот период важно подтверждать свою надежную привязанность с ребенком. Это можно делать через слова, сказки и игры.
Шестое. Успешное привыкание ребенка к саду происходит и за счет внимательных, заботливых, эмпатичных воспитателей, которые сопровождают ребенка в этом непростом периоде и оказывают ему такую нужную и необходимую эмоциональную поддержку. Чувства ребенка принимаются и уважаются. Малыш может их проживать полноценно,
опираясь на понимающего взрослого рядом, а значит не травмируется и получает качественный опыт вхождения в коллектив сверстников уже с ранних лет. Очень важен взрослый рядом, который может выдержать слезы ребенка, его грусть, способен утешить.
Ошибки взрослых, которые затягивают процесс адаптации:
— манипуляции и запугивания (Если не перестанешь плакать, я за тобой не приду),
— запрет на чувства (посмотри, другие дети не плачут),
— обман (иди просто посмотри игрушки- а сами убегают, чтоб ребенок не видел),
— отвлечение разными способами ребенка от его переживаний и т. д.
Сложно говорить о сроках, когда имеем дело с адаптацией, т. к. это очень
индивидуальный процесс. В среднем она длится от одного дня до нескольких месяцев. Сроки зависят от предыдущего опыта ребенка (был ли опыт посещения сада, насколько успешный) и личностных особенностей (темперамента, зрелости нервной системы, привязанности к маме), а также от семейной ситуации в целом.
Иногда адаптация бывает невозможна из-за трудностей сепарации родителя с ребенком, тогда лучше обратиться за помощью к психологу, чтобы через работу с родительской травмой, мешающей развитию и взрослению ребенка, помочь и облегчить ситуацию.
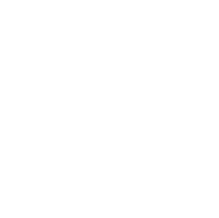
Екатерина Бойкова, психолог-консультант, психотерапевт
Я бы предложила развести свои потребности как родителя и потребности ребенка.
Основная задача подросткового возраста — сделать рывок по отделению от родителей. Подросток учится независимо мыслить и рассуждать. Начинается поиск идентичности. Подросток должен ответить сам себе на вопрос: «Какой я? Какие мои ценности?» Отчасти поэтому начинает проявляться отстраненность, закрытость и равнодушие. Молодые люди в этом возрасте достаточно эгоцентричны. И это нормально. Подросток много думает о себе и хотел бы говорить о себе. Подросток был бы рад если бы взрослые хотя бы иногда говорили с ним о нем, слушали бы с интересом и уважением.
Несмотря на внешнюю закрытость подростки нуждаются в близости с родителями и нуждаются в возможности поделиться какими-то своими мыслями, сомнениями и переживаниями. И здесь очень важно родителям вовремя переключаться с режима «воспитание» на режим «поддержка». Назидания, морализаторство и менторство разрушительны для контакта и общения. Взрослым важно быть доброжелательными, спокойными и гибкими. Хотя порой это сложно.
Основная сложность возникает тогда, когда родитель свои потребности размещает в ребенке. Верный и надежный способ справиться с подростковой закрытостью — это принадлежать не только ребенку, но и себе. Распределите время и силы чтобы их хватало не только на подростка, но и на себя. Проведите инвентаризацию внешних опор: работа, творчество, друзья, отношения. У многих родителей найдется список отложенных дел под названием «займусь, когда дети вырастут…».
Вот сейчас настало то самое время, обратиться к этому списку. Может вы давно мечтаете освоить новую профессию, или записаться на фитнес? А может заглянуть в театральную или киноафишу? Ваша полноценная жизнь благотворно скажется и на ребенке. Пусть ваш подросток видит в вас не только заботливого, внимательного и где-то тревожного родителя, но и человека с собственными делами, интересами и достижениями.
Я бы предложила развести свои потребности как родителя и потребности ребенка.
Основная задача подросткового возраста — сделать рывок по отделению от родителей. Подросток учится независимо мыслить и рассуждать. Начинается поиск идентичности. Подросток должен ответить сам себе на вопрос: «Какой я? Какие мои ценности?» Отчасти поэтому начинает проявляться отстраненность, закрытость и равнодушие. Молодые люди в этом возрасте достаточно эгоцентричны. И это нормально. Подросток много думает о себе и хотел бы говорить о себе. Подросток был бы рад если бы взрослые хотя бы иногда говорили с ним о нем, слушали бы с интересом и уважением.
Несмотря на внешнюю закрытость подростки нуждаются в близости с родителями и нуждаются в возможности поделиться какими-то своими мыслями, сомнениями и переживаниями. И здесь очень важно родителям вовремя переключаться с режима «воспитание» на режим «поддержка». Назидания, морализаторство и менторство разрушительны для контакта и общения. Взрослым важно быть доброжелательными, спокойными и гибкими. Хотя порой это сложно.
Основная сложность возникает тогда, когда родитель свои потребности размещает в ребенке. Верный и надежный способ справиться с подростковой закрытостью — это принадлежать не только ребенку, но и себе. Распределите время и силы чтобы их хватало не только на подростка, но и на себя. Проведите инвентаризацию внешних опор: работа, творчество, друзья, отношения. У многих родителей найдется список отложенных дел под названием «займусь, когда дети вырастут…».
Вот сейчас настало то самое время, обратиться к этому списку. Может вы давно мечтаете освоить новую профессию, или записаться на фитнес? А может заглянуть в театральную или киноафишу? Ваша полноценная жизнь благотворно скажется и на ребенке. Пусть ваш подросток видит в вас не только заботливого, внимательного и где-то тревожного родителя, но и человека с собственными делами, интересами и достижениями.
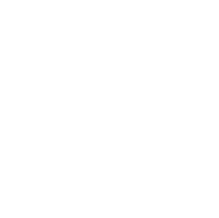
Анна Моисейченко, психоаналитический психотерапевт, ассоциированный член Московской психоаналитической ассоциации.
Супервизия — это система профессиональной поддержки специалистам помогающих профессий, где совершенствуются навыки и профессиональные компетенции.
Предлагаю подумать над вопросом и в контексте реальности, и немного глубже, насколько это возможно при отсутствии контакта с автором вопроса.
Возможно, в вопросе есть желание разобраться с границами.
Сталкиваясь с правилами, законами, нам не всегда объясняют причины и смыслы.
Важно понимать не только КАК нужно делать, но и ДЛЯ ЧЕГО это служит? Ответ на вопрос: «Почему стоит ходить к супервизору своего направления?», – лежит в поле вопроса:
«Каким будет развитие профессиональных навыков, например, у экзистенциального терапевта, если ходить на супервизии к когнитивно-поведенческому?»
Такой вопрос может возникнуть в связи со схожестью области работы (работа с реальностью, с психической реальностью, синтез реальности и бессознательного). Однако, даже, если область работы совпадает, теория и техника будут отличаться.
Даже интегративным, полимодальным специалистам (ориентированным на несколько подходов) имеет смысл ходить к супервизорам своего направления.
У меня был личный опыт, когда пошла учиться к психотерапевту другого направления. Думала, что теория обогатит практику. Возможно, так и есть, только помимо теории, это был практический курс (что здорово, но техника иная). И сразу стало понятно, почему не могу продолжать учиться. Это смешение привело бы к потере профессиональной идентичности.
Если говорим о консультирующем психологе, то психолог-консультант может посещать супервизора «общего направления» или без принадлежности методу.
Если говорим о психоаналитиках, то важно еще и со «школой» определиться. Потому, как практика Лакановского направления будет отличаться от французской или британской школы.
Возможно, за вопросом стоит желание смены метода. Тогда супервизия выступает, как способ понять: подходит ли другой метод.
Возможно, это желание «подглядеть» за работой коллеги другого направления. Или психотерапевт другого подхода вдохновляет, восхищает, тогда супервизия становится способом взаимодействия с тем, на кого хочется равняться.
За вопросом может скрываться намерение какую-то свою профессиональную часть «отнести» в один метод, другую – в иной. Здесь, можно думать про раскол, расщепление, что, возможно, существует внутри.
Расщепление — это механизм защиты, к которому обращаемся уже в раннем детстве. Психоаналитик, Гротштейн Д. С., определяет расщепление, как деятельность, при помощи которой «Я» видит различия внутри самости, ее объектов или между собой и объектами. Мотивом для расщепления может быть потребность в отделении удовольствия от неудовольствия, боли от комфорта, хорошего от плохого и т. д.
Понимание защитного расщепления заключается в опыте встречи с отчужденными аспектами себя. То есть к расщеплению прибегаем, когда психике становится невыносимо выдерживать амбивалентные (противоположные) чувства, когда другой или явление могут быть плохими и хорошими одновременно.
Поскольку вопрос от психолога, рекомендовала бы исследовать его в личной терапии/анализе, много интересного можно обнаружить.
Супервизия — это система профессиональной поддержки специалистам помогающих профессий, где совершенствуются навыки и профессиональные компетенции.
Предлагаю подумать над вопросом и в контексте реальности, и немного глубже, насколько это возможно при отсутствии контакта с автором вопроса.
Возможно, в вопросе есть желание разобраться с границами.
Сталкиваясь с правилами, законами, нам не всегда объясняют причины и смыслы.
Важно понимать не только КАК нужно делать, но и ДЛЯ ЧЕГО это служит? Ответ на вопрос: «Почему стоит ходить к супервизору своего направления?», – лежит в поле вопроса:
«Каким будет развитие профессиональных навыков, например, у экзистенциального терапевта, если ходить на супервизии к когнитивно-поведенческому?»
Такой вопрос может возникнуть в связи со схожестью области работы (работа с реальностью, с психической реальностью, синтез реальности и бессознательного). Однако, даже, если область работы совпадает, теория и техника будут отличаться.
Даже интегративным, полимодальным специалистам (ориентированным на несколько подходов) имеет смысл ходить к супервизорам своего направления.
У меня был личный опыт, когда пошла учиться к психотерапевту другого направления. Думала, что теория обогатит практику. Возможно, так и есть, только помимо теории, это был практический курс (что здорово, но техника иная). И сразу стало понятно, почему не могу продолжать учиться. Это смешение привело бы к потере профессиональной идентичности.
Если говорим о консультирующем психологе, то психолог-консультант может посещать супервизора «общего направления» или без принадлежности методу.
Если говорим о психоаналитиках, то важно еще и со «школой» определиться. Потому, как практика Лакановского направления будет отличаться от французской или британской школы.
Возможно, за вопросом стоит желание смены метода. Тогда супервизия выступает, как способ понять: подходит ли другой метод.
Возможно, это желание «подглядеть» за работой коллеги другого направления. Или психотерапевт другого подхода вдохновляет, восхищает, тогда супервизия становится способом взаимодействия с тем, на кого хочется равняться.
За вопросом может скрываться намерение какую-то свою профессиональную часть «отнести» в один метод, другую – в иной. Здесь, можно думать про раскол, расщепление, что, возможно, существует внутри.
Расщепление — это механизм защиты, к которому обращаемся уже в раннем детстве. Психоаналитик, Гротштейн Д. С., определяет расщепление, как деятельность, при помощи которой «Я» видит различия внутри самости, ее объектов или между собой и объектами. Мотивом для расщепления может быть потребность в отделении удовольствия от неудовольствия, боли от комфорта, хорошего от плохого и т. д.
Понимание защитного расщепления заключается в опыте встречи с отчужденными аспектами себя. То есть к расщеплению прибегаем, когда психике становится невыносимо выдерживать амбивалентные (противоположные) чувства, когда другой или явление могут быть плохими и хорошими одновременно.
Поскольку вопрос от психолога, рекомендовала бы исследовать его в личной терапии/анализе, много интересного можно обнаружить.
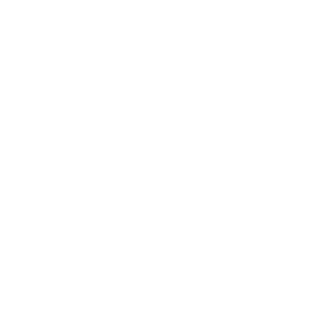
Отвечает Светлана Чижова, клинический психолог, психотерапевт, супервизор
Самоповреждение у подростков, как, впрочем, и у взрослых, часто является внешним проявлением глубоких душевных переживаний, «перегрузки» психики, а иногда это и симптом тяжёлого психического расстройства. В любом случае, когда речь заходит о самоповреждении, мы должны забыть слова «манипуляция» и «демонстративное поведение». Самоповреждения — это реакция на стрессовые события, внешние или внутренние. Эмоциональные переживания настолько сильны, а чувства так невыносимы, что подросток не находит другого способа с ними справиться, чем нанести себе самоповреждения. Справляться с этими эмоциями, контролировать их в момент наивысшего напряжения просто невозможно. Первичным мотивом, о котором часто говорят те, кто наносит себе самоповреждения, является снятие этого напряжения. Часто это самонаказание. Подростки говорят о непереносимом одиночестве, злости, страхе, интенсивность которых снижается, когда появляется физическая боль.
И субъективно для многих это единственный способ обходиться с проблемами или переживаниями. Если это не манипуляция или демонстративное поведение, что же тогда делать? Точно не паниковать! Но это не значит игнорировать. Нанесение себе порезов, причинение ожогов, глубокие царапины и др. не всегда говорят о необходимости срочной госпитализации или о наличии высокого суицидального риска, хотя и это тоже надо исключать, как иногда и нельзя обойтись без помощи врача-психиатра. В первую очередь важно увидеть, заметить и постараться открыто поговорить с подростком о том, что происходит. Вы как родитель или другой значимый взрослый в его жизни — неважно. Важно не оставить это незамеченным, а ещё за этот поступок не обвинить, не напугать, не наказать за «плохое поведение» и «что всех перепугал».
И, конечно, не применять насилие. Быть рядом и быть готовым об этом говорить и помочь, при этом не спугнуть, не надавить, не вызвать ещё большую агрессию или ухудшение состояния.
«Практически нереальная задача», — скажете вы. Правда, сложная, но очень важная. Что-то происходит с вашим ребёнком, и в этот момент необходимо пристально посмотреть, как ему живётся: дома, в школе, со сверстниками. Как он живет и почему у него болит? Почитайте про селфхарм в интернете, посмотрите ролики на YouTube. Поищите ДБТ-терапевта в своём городе или в сети, придите сами к нему и поговорите о том, как говорить о самоповреждениях с вашим ребёнком и откуда это берётся. Будьте рядом. И позаботьтесь о том, чтоб и рядом с вами был кто-то, с кем можно про это говорить.
Самоповреждение у подростков, как, впрочем, и у взрослых, часто является внешним проявлением глубоких душевных переживаний, «перегрузки» психики, а иногда это и симптом тяжёлого психического расстройства. В любом случае, когда речь заходит о самоповреждении, мы должны забыть слова «манипуляция» и «демонстративное поведение». Самоповреждения — это реакция на стрессовые события, внешние или внутренние. Эмоциональные переживания настолько сильны, а чувства так невыносимы, что подросток не находит другого способа с ними справиться, чем нанести себе самоповреждения. Справляться с этими эмоциями, контролировать их в момент наивысшего напряжения просто невозможно. Первичным мотивом, о котором часто говорят те, кто наносит себе самоповреждения, является снятие этого напряжения. Часто это самонаказание. Подростки говорят о непереносимом одиночестве, злости, страхе, интенсивность которых снижается, когда появляется физическая боль.
И субъективно для многих это единственный способ обходиться с проблемами или переживаниями. Если это не манипуляция или демонстративное поведение, что же тогда делать? Точно не паниковать! Но это не значит игнорировать. Нанесение себе порезов, причинение ожогов, глубокие царапины и др. не всегда говорят о необходимости срочной госпитализации или о наличии высокого суицидального риска, хотя и это тоже надо исключать, как иногда и нельзя обойтись без помощи врача-психиатра. В первую очередь важно увидеть, заметить и постараться открыто поговорить с подростком о том, что происходит. Вы как родитель или другой значимый взрослый в его жизни — неважно. Важно не оставить это незамеченным, а ещё за этот поступок не обвинить, не напугать, не наказать за «плохое поведение» и «что всех перепугал».
И, конечно, не применять насилие. Быть рядом и быть готовым об этом говорить и помочь, при этом не спугнуть, не надавить, не вызвать ещё большую агрессию или ухудшение состояния.
«Практически нереальная задача», — скажете вы. Правда, сложная, но очень важная. Что-то происходит с вашим ребёнком, и в этот момент необходимо пристально посмотреть, как ему живётся: дома, в школе, со сверстниками. Как он живет и почему у него болит? Почитайте про селфхарм в интернете, посмотрите ролики на YouTube. Поищите ДБТ-терапевта в своём городе или в сети, придите сами к нему и поговорите о том, как говорить о самоповреждениях с вашим ребёнком и откуда это берётся. Будьте рядом. И позаботьтесь о том, чтоб и рядом с вами был кто-то, с кем можно про это говорить.
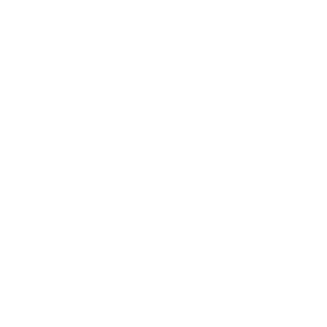
Отвечает магистр психологии Андрей Колосовцев, специалист по системной семейной терапии.
Если я правильно Вас понимаю, Вы спрашиваете о том, как справляться с чувством вины в ответ на обвинения партнера и с обидой на него. Сразу скажу, что Вы не одиноки. Игра «передай вину партнеру» часто встречается в парных отношениях. Партнеры пытаются передать друг другу вину как «горячий пирожок». За желанием передать вину может быть:
1. Попытка снять с себя ответственность за случившееся, передав её партнеру. (Он плохой – я хороший. Он ответственный – я святой и беспомощный).
2. Попытка сохранить устраивающую нас модель отношений «Родитель-ребенок». Партнер, который избран на роль родителя, должен полностью обслуживать все потребности ребенка. Ребенок имеет право обвинить родителя в плохой заботе.
3. Способ выражения своей обиды. Нам тяжело напрямую высказывать свои недовольства и тогда мы обижаемся. Пусть партнер почувствует себя виноватым.
4. Избегание разочарования в идеальном образе партнера. Пока мы продолжаем обвинять, у нас есть надежда добиться соответствия нашего партнера нашему идеальному образу.
5. Страх близких отношений. Обвиняя, мы держим комфортную для нас дистанцию в отношениях. Через обвинение мы отстраняемся от эмоциональной близости.
6. Желание взять верх над партнером и подчинить его своей воле. Обвиняя, мы стремимся повысить свою самооценку на фоне снижения ценности партнера.
Вы спрашиваете, можно ли блокировать свои реакции, когда нас обвиняют. Нельзя. На то мы и люди, что чувствуем и переживаем о нашей жизни и особенно о том, что связано с нашими близкими. Я бы постарался относиться к своим обидам не как к чему-то, что нужно блокировать, а как к эмоции, которая что-то пытается сказать нам о нашей жизни.
Обида – частая реакция на несправедливость и ощущение своей беспомощности. Отвечая на Ваш вопрос, Вы можете начать с того, чтобы попытаться понять, что за потребность и неудовлетворенность может стоять за Вашей обидой. Если удастся понять, что Вы хотите и сформировать своё требование к партнеру, то это будет замечательно, так как вернет Вам чувство уверенности и ответственности за свою жизнь. К примеру, Вы можете сказать: “Когда ты на меня кричишь и обзываешь, я чувствую себя паршиво. В такие моменты мне хочется отстраниться от тебя. Я злюсь и чувствую себя виноватой. Прошу тебя разговаривать со мной более уважительно.”
Если я правильно Вас понимаю, Вы спрашиваете о том, как справляться с чувством вины в ответ на обвинения партнера и с обидой на него. Сразу скажу, что Вы не одиноки. Игра «передай вину партнеру» часто встречается в парных отношениях. Партнеры пытаются передать друг другу вину как «горячий пирожок». За желанием передать вину может быть:
1. Попытка снять с себя ответственность за случившееся, передав её партнеру. (Он плохой – я хороший. Он ответственный – я святой и беспомощный).
2. Попытка сохранить устраивающую нас модель отношений «Родитель-ребенок». Партнер, который избран на роль родителя, должен полностью обслуживать все потребности ребенка. Ребенок имеет право обвинить родителя в плохой заботе.
3. Способ выражения своей обиды. Нам тяжело напрямую высказывать свои недовольства и тогда мы обижаемся. Пусть партнер почувствует себя виноватым.
4. Избегание разочарования в идеальном образе партнера. Пока мы продолжаем обвинять, у нас есть надежда добиться соответствия нашего партнера нашему идеальному образу.
5. Страх близких отношений. Обвиняя, мы держим комфортную для нас дистанцию в отношениях. Через обвинение мы отстраняемся от эмоциональной близости.
6. Желание взять верх над партнером и подчинить его своей воле. Обвиняя, мы стремимся повысить свою самооценку на фоне снижения ценности партнера.
Вы спрашиваете, можно ли блокировать свои реакции, когда нас обвиняют. Нельзя. На то мы и люди, что чувствуем и переживаем о нашей жизни и особенно о том, что связано с нашими близкими. Я бы постарался относиться к своим обидам не как к чему-то, что нужно блокировать, а как к эмоции, которая что-то пытается сказать нам о нашей жизни.
Обида – частая реакция на несправедливость и ощущение своей беспомощности. Отвечая на Ваш вопрос, Вы можете начать с того, чтобы попытаться понять, что за потребность и неудовлетворенность может стоять за Вашей обидой. Если удастся понять, что Вы хотите и сформировать своё требование к партнеру, то это будет замечательно, так как вернет Вам чувство уверенности и ответственности за свою жизнь. К примеру, Вы можете сказать: “Когда ты на меня кричишь и обзываешь, я чувствую себя паршиво. В такие моменты мне хочется отстраниться от тебя. Я злюсь и чувствую себя виноватой. Прошу тебя разговаривать со мной более уважительно.”
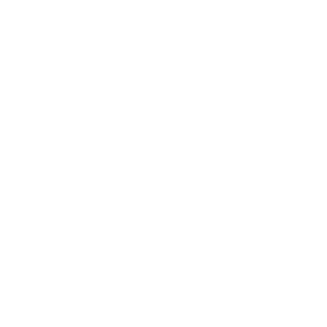
Отвечает Юлия Чудная, психолог
Агрессия присуща нам всем с момента рождения, благодаря ей мы становимся зрелыми людьми, ощущающими свои границы, благодаря агрессивному импульсу, младенец издает первый крик и борется за выживание. Агрессия — это достижение эволюции, — кроме младенца, все остальные животные выживут и так, а только человеческий детеныш через агрессию и требование еды. Она ему необходима для коммуникации. Непонимание ее природы, подавление ее в угоду социуму, семье, ожиданиям других людей часто приводит к ощущениям неуверенности и желаниям найти виновного.
Прекрасно понимаю вашу тревогу — увлечение детей и подростков анимэ вызывает много вопросов у родителей, поскольку наш социум демонстрирует агрессию патологического характера, уничтожающую и себя и другого, уничтожающую отношения. И страшно, что ребенок возьмет именно такой сценарий, а справиться с этим, назначив виноватым японский культурный феномен.
Начну с короткого практического примера — 11 лет назад мой сын увлекся анимэ, при моем полном недоумении и неодобрении, а сейчас он самостоятельно изучает японский язык, поскольку для его успешной работы создателя мультипликационных образов и сюжетов не хватает пласта профессиональной литературы на японском языке. Вот, во что вылилось увлечение, которое незаслуженно в нашем пространстве считается вредным. Оно создало серьезную мотивацию и привело к неожиданным и поразительным результатам.
Просмотр анимэ является легитимным вариантом разрядки агрессивных чувств. Как и любое художественное произведение, оно выступает местом, где можно разместить свои страхи, боль, неуверенность, злость, обиду, желание отомстить. И обсуждение этих эмоций на базе мультфильма для ребенка и подростка безопасно. Там можно пофантазировать и символически «наказать преступника».
Японские мультики несут в себе много смыслов, существует мистические, фантастические, лирическое, юмористические серии. И даже серии, описывающие становление сексуальной идентичности. Японцы очень глубокая и тонкочувствующая нация. Есть полноценные психологические фильмы в этом жанре исключительно для взрослых.
Как сделать так, чтобы увлечение ребенка не стало предметом конфликта? Посмотрите сами, посмотрите вместе с ним, если позволит. Предложите посмотреть ему с вами то анимэ, которое понравилось вам, уверяю, они есть очень интересные. Попробуйте обсудить, что такого в героях мультфильма важно.
Рекомендую присоединиться к своему ребенку и вместе изучать этот вопрос. Тогда таинственные «японские мультики» не будут казаться ужасными, как все новое, вызывающее тревогу.
Начинайте с классики, с режиссера Миядзаки. И с книги Ненси Сталкер: «Япония. История и культура. От самураев до манги».
Агрессия присуща нам всем с момента рождения, благодаря ей мы становимся зрелыми людьми, ощущающими свои границы, благодаря агрессивному импульсу, младенец издает первый крик и борется за выживание. Агрессия — это достижение эволюции, — кроме младенца, все остальные животные выживут и так, а только человеческий детеныш через агрессию и требование еды. Она ему необходима для коммуникации. Непонимание ее природы, подавление ее в угоду социуму, семье, ожиданиям других людей часто приводит к ощущениям неуверенности и желаниям найти виновного.
Прекрасно понимаю вашу тревогу — увлечение детей и подростков анимэ вызывает много вопросов у родителей, поскольку наш социум демонстрирует агрессию патологического характера, уничтожающую и себя и другого, уничтожающую отношения. И страшно, что ребенок возьмет именно такой сценарий, а справиться с этим, назначив виноватым японский культурный феномен.
Начну с короткого практического примера — 11 лет назад мой сын увлекся анимэ, при моем полном недоумении и неодобрении, а сейчас он самостоятельно изучает японский язык, поскольку для его успешной работы создателя мультипликационных образов и сюжетов не хватает пласта профессиональной литературы на японском языке. Вот, во что вылилось увлечение, которое незаслуженно в нашем пространстве считается вредным. Оно создало серьезную мотивацию и привело к неожиданным и поразительным результатам.
Просмотр анимэ является легитимным вариантом разрядки агрессивных чувств. Как и любое художественное произведение, оно выступает местом, где можно разместить свои страхи, боль, неуверенность, злость, обиду, желание отомстить. И обсуждение этих эмоций на базе мультфильма для ребенка и подростка безопасно. Там можно пофантазировать и символически «наказать преступника».
Японские мультики несут в себе много смыслов, существует мистические, фантастические, лирическое, юмористические серии. И даже серии, описывающие становление сексуальной идентичности. Японцы очень глубокая и тонкочувствующая нация. Есть полноценные психологические фильмы в этом жанре исключительно для взрослых.
Как сделать так, чтобы увлечение ребенка не стало предметом конфликта? Посмотрите сами, посмотрите вместе с ним, если позволит. Предложите посмотреть ему с вами то анимэ, которое понравилось вам, уверяю, они есть очень интересные. Попробуйте обсудить, что такого в героях мультфильма важно.
Рекомендую присоединиться к своему ребенку и вместе изучать этот вопрос. Тогда таинственные «японские мультики» не будут казаться ужасными, как все новое, вызывающее тревогу.
Начинайте с классики, с режиссера Миядзаки. И с книги Ненси Сталкер: «Япония. История и культура. От самураев до манги».
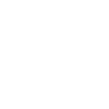
Отвечает Ирина Млодик, детский психолог, экзистенциальный психотерапевт
Психологические задачи подросткового возраста: познать себя, познать мир и начать сепарироваться (отделяться) от родителей. Чтобы стать взрослым, нужно перестать быть ребёнком, то есть оставить детские модели поведения, а детские модели связаны с послушанием. Сепарация часто сопровождается агрессией и злостью, без которых невозможно оторваться от того, к кому был привязан. Мат — это «взрослый» язык, говоря на нем, дети примеряют на себя взрослый образ, к тому же, они пробуют то, что им было запрещено родителями ранее. С матом как таковым бороться бессмысленно. Вы можете только ставить границы, чтобы ребенок не матерился дома, при вас и при детях.
Ютуб — это простой способ познания мира. Сейчас все новости, интересные для подростков, события освещаются в интернете, это привычная для детей среда. Чтобы узнавать новое или развлекаться им интереснее включить ютюб, нежели телевизор или послушать родителя, который знает все равно значительно меньше, чем мировая сеть.
Если вы хотите сохранить контакт с ребёнком, вы можете спрашивать, что именно ему интересно смотреть на ютубе, и почему это его так привлекает.
Психологические задачи подросткового возраста: познать себя, познать мир и начать сепарироваться (отделяться) от родителей. Чтобы стать взрослым, нужно перестать быть ребёнком, то есть оставить детские модели поведения, а детские модели связаны с послушанием. Сепарация часто сопровождается агрессией и злостью, без которых невозможно оторваться от того, к кому был привязан. Мат — это «взрослый» язык, говоря на нем, дети примеряют на себя взрослый образ, к тому же, они пробуют то, что им было запрещено родителями ранее. С матом как таковым бороться бессмысленно. Вы можете только ставить границы, чтобы ребенок не матерился дома, при вас и при детях.
Ютуб — это простой способ познания мира. Сейчас все новости, интересные для подростков, события освещаются в интернете, это привычная для детей среда. Чтобы узнавать новое или развлекаться им интереснее включить ютюб, нежели телевизор или послушать родителя, который знает все равно значительно меньше, чем мировая сеть.
Если вы хотите сохранить контакт с ребёнком, вы можете спрашивать, что именно ему интересно смотреть на ютубе, и почему это его так привлекает.
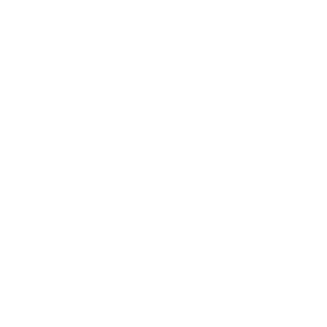
Отвечает Александр Рогулин, экзистенциальный психотерапевт
Если ответить коротко, то это невозможно. Единой картины устройства мира не существует. Тысячелетиями философы разных направлений предлагают свои варианты, среди которых нет ведущих или правильных. Следовательно, в кабинете психотерапевта встречаются минимум два устройства мира: клиента и терапевта.
Задачами психотерапевта (в контексте вашего вопроса) являются:
Как психотерапевт, я отвечаю за работу с психикой, разъяснение психической реальности, обучение идентифицировать и дифференцировать происходящее у моего клиента внутри, интерпретацию бессознательных мотивов и проявлений, с целью познакомить клиента с его же собственным мироустройством.
Однако я не могу и не должен говорить ему как устроен мир, так как никто не знает ответа на этот вопрос. Более того, многие проблемы, с которыми пришел клиент, связаны как раз с тем, что значимые фигуры в его жизни пытались сообщить ему свой взгляд на мироустройство, обозначали его правильным и предлагали следовать ему разными способами. Это опасный и неэффективный путь, к тому же выходящий за рамки наших профессиональных возможностей и обязанностей.
Однако сказать, что психотерапевт не оказывает влияния на формирование или изменения мироустройства клиента было бы, конечно, не верным. В кабинете неминуемо происходит столкновение клиента со мной, как с объектом. Я оказываюсь тем «другим», кто наблюдает и комментирует происходящее с ним, описывает творящееся здесь и сейчас внутри его и снаружи. Физики показали, что от наблюдателя зачастую зависят свойства объекта. Можно быть уверенным, что присутствие другого влияет на происходящее с нами не меньше.
Устойчивость терапевта, поддержанная рамкой и «контрактом» (сеттингом и условиями работы), его личный стиль и особенности характера влияют на процесс. Клиент воспринимает их и перед ним встает возможность взять что-то из этого для себя. Что-то, что является опорным. Зачастую нейтральность и спокойствие терапевта, его реакции, стиль речи - да что угодно - может оказать воздействие. Мы не можем на это влиять. На границе столкновения двух миров и происходит медленное поступательное изменение ландшафта реальности клиента. Мы неминуемо влияем друг на друга: я на клиента, а клиент - на меня.
Как вы видите, это в корне отличается от наставничества, подразумевающего одностороннее влияние или обучение. Что вновь возвращает нас к той части вопроса, где терапевту не следует быть в большинстве случаев наставником или говорить клиенту как быть. (Мы можем быть директивны в определенных профессиональных ситуациях).
Более того, терапевт, взявший на себя роль наставника, помимо того, что подвергает опасности клиента, процесс терапии и компрометирует профессию, скорее всего будет подвержен выгоранию, так как психика клиента умеет и будет себя защищать, чтобы сохранить целостность. Такой терапевт не сможет построить длительные отношения с клиентом, не превращая их в созависимость и будет испытывать опустошённость и проблемы в своей практике. Желание повлиять на клиента непосредственным образом, вести его за собой, встать впереди клиента и указать путь, следует прорабатывать любому практикующему специалисту на личной терапии и супервизии.
Если ответить коротко, то это невозможно. Единой картины устройства мира не существует. Тысячелетиями философы разных направлений предлагают свои варианты, среди которых нет ведущих или правильных. Следовательно, в кабинете психотерапевта встречаются минимум два устройства мира: клиента и терапевта.
Задачами психотерапевта (в контексте вашего вопроса) являются:
- исследование субъективного устройства мира клиента, связывание различных аспектов данной картины;
- обозначение попыток создания нереалистичных и приводящих к конфликту элементов;
- конфронтация с привитыми извне элементами мироустройства (так называемые «интроекты»), которые вступают в противоречие с личным опытом и представлениями клиента и не проходят проверку опытом;
- минимизация воздействия личного взгляда на мир терапевта на процессы, происходящие с клиентом.
Как психотерапевт, я отвечаю за работу с психикой, разъяснение психической реальности, обучение идентифицировать и дифференцировать происходящее у моего клиента внутри, интерпретацию бессознательных мотивов и проявлений, с целью познакомить клиента с его же собственным мироустройством.
Однако я не могу и не должен говорить ему как устроен мир, так как никто не знает ответа на этот вопрос. Более того, многие проблемы, с которыми пришел клиент, связаны как раз с тем, что значимые фигуры в его жизни пытались сообщить ему свой взгляд на мироустройство, обозначали его правильным и предлагали следовать ему разными способами. Это опасный и неэффективный путь, к тому же выходящий за рамки наших профессиональных возможностей и обязанностей.
Однако сказать, что психотерапевт не оказывает влияния на формирование или изменения мироустройства клиента было бы, конечно, не верным. В кабинете неминуемо происходит столкновение клиента со мной, как с объектом. Я оказываюсь тем «другим», кто наблюдает и комментирует происходящее с ним, описывает творящееся здесь и сейчас внутри его и снаружи. Физики показали, что от наблюдателя зачастую зависят свойства объекта. Можно быть уверенным, что присутствие другого влияет на происходящее с нами не меньше.
Устойчивость терапевта, поддержанная рамкой и «контрактом» (сеттингом и условиями работы), его личный стиль и особенности характера влияют на процесс. Клиент воспринимает их и перед ним встает возможность взять что-то из этого для себя. Что-то, что является опорным. Зачастую нейтральность и спокойствие терапевта, его реакции, стиль речи - да что угодно - может оказать воздействие. Мы не можем на это влиять. На границе столкновения двух миров и происходит медленное поступательное изменение ландшафта реальности клиента. Мы неминуемо влияем друг на друга: я на клиента, а клиент - на меня.
Как вы видите, это в корне отличается от наставничества, подразумевающего одностороннее влияние или обучение. Что вновь возвращает нас к той части вопроса, где терапевту не следует быть в большинстве случаев наставником или говорить клиенту как быть. (Мы можем быть директивны в определенных профессиональных ситуациях).
Более того, терапевт, взявший на себя роль наставника, помимо того, что подвергает опасности клиента, процесс терапии и компрометирует профессию, скорее всего будет подвержен выгоранию, так как психика клиента умеет и будет себя защищать, чтобы сохранить целостность. Такой терапевт не сможет построить длительные отношения с клиентом, не превращая их в созависимость и будет испытывать опустошённость и проблемы в своей практике. Желание повлиять на клиента непосредственным образом, вести его за собой, встать впереди клиента и указать путь, следует прорабатывать любому практикующему специалисту на личной терапии и супервизии.
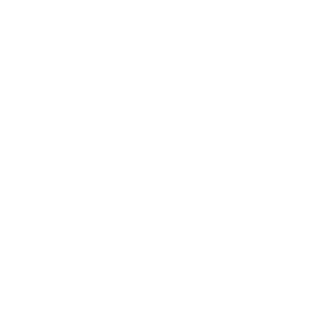
Отвечает Мария Волошина, экзистенциальный психотерапевт
Я предположу, что этот вопрос задает человек, который ищет возможность начать психотерапию или уже клиент психолога. И вероятно есть уже понимание о том, как "нарушенная" привязанность влияет на текущую жизнь человека. Как именно, как она создана, из чего состоит и как укреплять - с этим и разбирается любой долгосрочный метод психотерапии, построенный как отношения, например, психоаналитическая терапия, экзистенциальная терапия.
Если вопрос задает психолог, то я бы задумалась о том, что стоит за этой целью укреплять и восстанавливать привязанность. И предложила бы переформулировать эту цель в размышление об актуальных жизненных проблемах клиента - как это влияет на разные сферы жизни клиента, какие трудности создает - и работать в терапии над этим.
Я предположу, что этот вопрос задает человек, который ищет возможность начать психотерапию или уже клиент психолога. И вероятно есть уже понимание о том, как "нарушенная" привязанность влияет на текущую жизнь человека. Как именно, как она создана, из чего состоит и как укреплять - с этим и разбирается любой долгосрочный метод психотерапии, построенный как отношения, например, психоаналитическая терапия, экзистенциальная терапия.
Если вопрос задает психолог, то я бы задумалась о том, что стоит за этой целью укреплять и восстанавливать привязанность. И предложила бы переформулировать эту цель в размышление об актуальных жизненных проблемах клиента - как это влияет на разные сферы жизни клиента, какие трудности создает - и работать в терапии над этим.
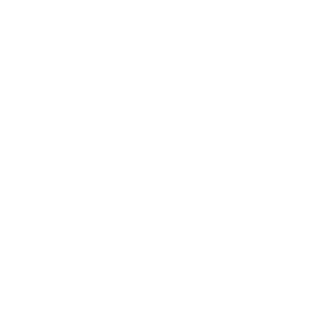
Отвечает Мария Волошина, экзистенциальный психотерапевт
Можно и нужно. Мы работает с любым материалом, который приносит нам наш клиент. Часто клиенты говорят многое не только словами, но и на невербальном уровне. Развивая собственную чуткость и возможность следовать своим фантазиям и чувствам о клиенте, терапевт может узнать о травматическом опыте достаточно много. Но в любом случае возможность клиента говорить о нем должна созреть, и иногда на это нужно много времени. Не нужно подгонять. Во многих подходах считается, что работа с актуальными чувствами, «здесь-и-сейчас» даже более продуктивна и является ступенькой, с которой можно двигаться в прошлое и связывать детский опыт с нынешними сложностями в жизни человека. Здесь, конечно, есть вопрос техники и тактики, и их будет полезно отнести на индивидуальную супервизию.
Можно и нужно. Мы работает с любым материалом, который приносит нам наш клиент. Часто клиенты говорят многое не только словами, но и на невербальном уровне. Развивая собственную чуткость и возможность следовать своим фантазиям и чувствам о клиенте, терапевт может узнать о травматическом опыте достаточно много. Но в любом случае возможность клиента говорить о нем должна созреть, и иногда на это нужно много времени. Не нужно подгонять. Во многих подходах считается, что работа с актуальными чувствами, «здесь-и-сейчас» даже более продуктивна и является ступенькой, с которой можно двигаться в прошлое и связывать детский опыт с нынешними сложностями в жизни человека. Здесь, конечно, есть вопрос техники и тактики, и их будет полезно отнести на индивидуальную супервизию.
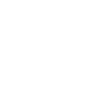
Отвечает Алена Апостолова, экзистенциальный психотерапевт
Одежда, которую мы выбираем — способ самовыражения и общения с внешним миром. Это послание, на котором мы что-то сообщаем символически.
Традиционно черный цвет это цвет траурных одежд. Часто при трактовке цветов черный цвет обозначает тайну, отрицание, разрушительность, посыл к агрессии. Он одновременно завораживает и манит, втягивает в свою бездонную глубину.
Обычно с яркими цветами у нас ассоциируется детство. Возможно, что черным цветом подростки подчеркивают что «детство осталось в прошлом!».
Подростковый возраст это время, когда происходит много изменений как в организме, так и в сознании взрослеющего человека.
Это период встречи с вопросами смысла жизни, конечности жизни и поиском собственного «Я». Этот период полный метаний и исканий потому и считается кризисным, переходным. В поиске своей индивидуальности и независимости, молодой человек остро жаждет единения и понимания.
Довольно часто черный цвет в одежде имеет защитную функцию от чрезмерного внимания окружающих. Часто подросток озабочен своей внешностью и тем, как он выглядит в глазах окружающих (что является очень нормальным) и одежда черного цвета может носить «маскирующий» характер. Визуально одежда темная «скрадывает» формы, уменьшает в размерах.
Помимо этого, черный цвет может создавать чувство общности и причастности с группой похожих людей. Подросток, находясь в поиске себя, пытается самоутвердиться среди сверстников, мнение которых для него становится более значимым, чем мнение родителей или педагогов. Одежда становится тоже способом показать принадлежность к своей референтной группе в том числе и в выборе цвета.
Одежда, которую мы выбираем — способ самовыражения и общения с внешним миром. Это послание, на котором мы что-то сообщаем символически.
Традиционно черный цвет это цвет траурных одежд. Часто при трактовке цветов черный цвет обозначает тайну, отрицание, разрушительность, посыл к агрессии. Он одновременно завораживает и манит, втягивает в свою бездонную глубину.
Обычно с яркими цветами у нас ассоциируется детство. Возможно, что черным цветом подростки подчеркивают что «детство осталось в прошлом!».
Подростковый возраст это время, когда происходит много изменений как в организме, так и в сознании взрослеющего человека.
Это период встречи с вопросами смысла жизни, конечности жизни и поиском собственного «Я». Этот период полный метаний и исканий потому и считается кризисным, переходным. В поиске своей индивидуальности и независимости, молодой человек остро жаждет единения и понимания.
Довольно часто черный цвет в одежде имеет защитную функцию от чрезмерного внимания окружающих. Часто подросток озабочен своей внешностью и тем, как он выглядит в глазах окружающих (что является очень нормальным) и одежда черного цвета может носить «маскирующий» характер. Визуально одежда темная «скрадывает» формы, уменьшает в размерах.
Помимо этого, черный цвет может создавать чувство общности и причастности с группой похожих людей. Подросток, находясь в поиске себя, пытается самоутвердиться среди сверстников, мнение которых для него становится более значимым, чем мнение родителей или педагогов. Одежда становится тоже способом показать принадлежность к своей референтной группе в том числе и в выборе цвета.
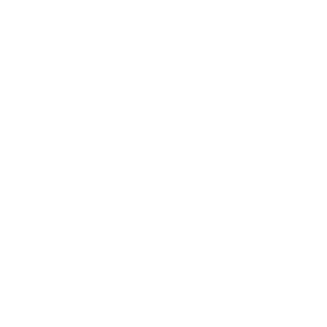
Отвечает магистр психологии Андрей Колосовцев, специалист по системной семейной терапии.
Давайте сразу определимся, что существует нормальный и патологический нарциссизм. При нормальном нарциссизме мы ощущаем свою целостность, умеем гордиться и проявлять себя, получаем удовлетворение от жизни и радость от реализации в профессии, дружбе, семейных отношениях. Нормальный нарциссизм берет своё начало из детства, в котором мы напитались любящими и внимательными глазами матери и в, конечном счёте, родители (сначала мать) стали для нас важными и значимыми людьми.
Однако если в детстве мать была отсутствующая (в депрессии, в травме, психически не готовая к рождению ребенка, отстраненная и т. д.), то может не возникнуть важной связи между ребенком и матерью. Не напитавшись любовью, ребенок не может направить в ответ свой интерес и либидо к матери (в мир). Если важная встреча между мамой и ребенком не состоялась, он сосредотачивает всё своё внимание на себе. Отныне он никому не нужен, а значит и ему никто не нужен.
Людям, страдающим от нехватки первичного нарциссизма (напитанностью любовью матери), трудно выносить привязанность. Они страдают от повышенного самомнения и грандиозности, но в то же время очень чувствительны к оценкам других и периодически ощущают вспышки неуверенности в себе. Им сложно строить отношения. Они склонны идеализировать и затем обесценивать других. Сильный стыд; преследующая зависть; сложности с эмпатией; ощущение пустоты; озабоченность фантазиями на тему неограниченного успеха и власти — далеко не полный перечень проблем людей с дефицитом первичного нарциссизма. Стремясь поддержать самооценку, они постоянно пытаются совершенствовать своё Я и неспособны находить радость в амбивалентности человеческого существования.
Травма людей с дефицитом первичного нарциссизма в том, что они не могут отказаться от того, чего у них не было. Если не было той первой важной встречи с матерью, когда ребёнок мог почувствовать себя центром вселенной, то и отказаться от неё невозможно. Многие из нас не могут оплакать пустоту раннего детства и ищут встречу с «любящими глазами» всю жизнь. Ведь именно в такой встрече они надеются вернуть себе самоценность и любовь к другим.
Однако, я с вами согласен, что ориентир только на самостоятельную работу — это тоже нарциссизм. Опыт принятия и построения отношений, основанных на близости и уважении, можно получить только с другим человеком. Само признание, что мы нуждаемся в другом, уже огромный шаг на пути избавления от нарциссической изолированности. Поэтому я Вам рекомендую личную или групповую терапию. В такой терапии получая новый опыт и познавая себя в контакте с другим/ми мы можем восстанавливать нашу способность любить, ощущать себя наполненными и получать больше удовлетворения от жизни и отношений. Это потребует времени и денег, но поверьте, усилия того стоят.
Давайте сразу определимся, что существует нормальный и патологический нарциссизм. При нормальном нарциссизме мы ощущаем свою целостность, умеем гордиться и проявлять себя, получаем удовлетворение от жизни и радость от реализации в профессии, дружбе, семейных отношениях. Нормальный нарциссизм берет своё начало из детства, в котором мы напитались любящими и внимательными глазами матери и в, конечном счёте, родители (сначала мать) стали для нас важными и значимыми людьми.
Однако если в детстве мать была отсутствующая (в депрессии, в травме, психически не готовая к рождению ребенка, отстраненная и т. д.), то может не возникнуть важной связи между ребенком и матерью. Не напитавшись любовью, ребенок не может направить в ответ свой интерес и либидо к матери (в мир). Если важная встреча между мамой и ребенком не состоялась, он сосредотачивает всё своё внимание на себе. Отныне он никому не нужен, а значит и ему никто не нужен.
Людям, страдающим от нехватки первичного нарциссизма (напитанностью любовью матери), трудно выносить привязанность. Они страдают от повышенного самомнения и грандиозности, но в то же время очень чувствительны к оценкам других и периодически ощущают вспышки неуверенности в себе. Им сложно строить отношения. Они склонны идеализировать и затем обесценивать других. Сильный стыд; преследующая зависть; сложности с эмпатией; ощущение пустоты; озабоченность фантазиями на тему неограниченного успеха и власти — далеко не полный перечень проблем людей с дефицитом первичного нарциссизма. Стремясь поддержать самооценку, они постоянно пытаются совершенствовать своё Я и неспособны находить радость в амбивалентности человеческого существования.
Травма людей с дефицитом первичного нарциссизма в том, что они не могут отказаться от того, чего у них не было. Если не было той первой важной встречи с матерью, когда ребёнок мог почувствовать себя центром вселенной, то и отказаться от неё невозможно. Многие из нас не могут оплакать пустоту раннего детства и ищут встречу с «любящими глазами» всю жизнь. Ведь именно в такой встрече они надеются вернуть себе самоценность и любовь к другим.
Однако, я с вами согласен, что ориентир только на самостоятельную работу — это тоже нарциссизм. Опыт принятия и построения отношений, основанных на близости и уважении, можно получить только с другим человеком. Само признание, что мы нуждаемся в другом, уже огромный шаг на пути избавления от нарциссической изолированности. Поэтому я Вам рекомендую личную или групповую терапию. В такой терапии получая новый опыт и познавая себя в контакте с другим/ми мы можем восстанавливать нашу способность любить, ощущать себя наполненными и получать больше удовлетворения от жизни и отношений. Это потребует времени и денег, но поверьте, усилия того стоят.
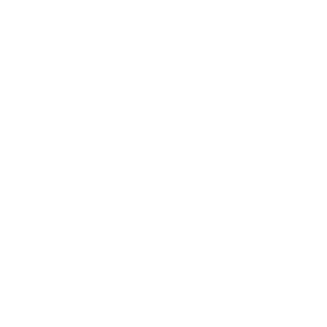
Отвечает Александр Рогулин, экзистенциальный психотерапевт
По вопросу невозможно понять на каком именно этапе подготовки находится специалист, желающий начать частную практику. Вы только планируете учиться на психолога или психиатра, а далее на психотерапевта? Вы уже отучились, но пока нет опыта, а хотелось бы начать принимать в частном порядке? А может у вас уже много опыта, но вы работаете на организацию?
Так как возможности уточнить нет, отвечу наиболее полно, исходя из соображения, что вы получили академическое психологическое или медицинское образование, имеете на руках диплом ВУЗа (или находитесь в процессе обучения) и задаётесь вопросом: какие шаги предпринять дальше для становления частной практики?
Во-первых, вам необходимо выбрать направление и подход, в котором развиваться дальше и «сертифицироваться» — получить документ о дополнительном практическом образовании. Попробуйте понять, что вам ближе. Скорее всего, у вас уже есть багаж прочитанного и усвоенного материала, и что-то приглянулось вам больше, отозвалось, вызвало больше интереса.
Какой подход и терапевтическая школа наиболее полно задействует ваши личные качества и особенности взаимодействия, а какой — вступает с ними в противоречие. Вам комфортно молчать? Вам хочется больше привносить свои реакции и мысли в контакт или быть более отстранённым? Какая философская концепция жизни вам ближе всего?
Выбрав подход, следует определиться к кому и как именно вы хотели бы попасть на обучение. Можете не согласиться, но многое в психотерапии и консультировании является ремеслом, поэтому крайне важен и тот, кто обучает вас ремеслу. Обучаясь живописи у Караваджо, я стану художником, отличным от ученика Брейгеля.
Вы можете начать частную практику и будучи просто психологом-консультантом, не обучаясь на психотерапевта в каком-либо подходе. Однако тут есть ряд сложностей: вероятно, вы столкнётесь с проблемами с вхождением в профессиональные сообщества и группы, так как зачастую они требуют сертификата психотерапевта и подтвержденных часов личной терапии и супервизии; разрыв между академической и практической психологией у нас все ещё крайне велик, и скорее всего, вы начнёте испытывать трудности в работе непосредственно с клиентами; самое главное — консультирование не подразумевает формирования устойчивых отношений с клиентом, поэтому практика редко бывает устойчивой.
Итак, вы выбрали направление, обучаетесь в нем или уже даже сертифицировались. Теперь вам стоит позаботиться о сеттинге и рамке, как процессуальной, так и вашей личной. Процессуальную рамку, необходимую для работы с клиентом, осуществляет т. н. терапевтический контракт — условия, на которых вы согласны работать с людьми. Он во многом препятствует образованию неэффективных отношений с клиентом (созависимых, садистических и т. д.), позволяет всем участникам быть максимально открытыми и оставаться в отношениях, создает безопасность и для вас, и для клиента, мешает отреагированию в процессе. Я считаю формирование контракта важнейшей частью частной практики. Конечно, он будет изменяться и корректироваться со временем под воздействием профессионального опыта, ситуаций и вашей позиции.
Личная рамка создаётся через понимание того, как именно вы хотите работать. Сколько вы хотите работать часов в неделю? Сколько вам необходимо зарабатывать для комфортной жизни? Сколько вы хотите выходных в неделю? В какие дни вам некомфортно принимать клиентов? Во сколько вы хотели бы начинать приём и во сколько заканчивать? Где вам было бы комфортнее принимать? Готовы ли вы работать онлайн? И, наконец, как теперь совместить в рабочую схему ответы на вышеприведенные вопросы?
Это позволит вам лучше понять ваши ограничения и возможности, сориентироваться в том, сколько именно клиентов вам надо, избежать выгорания или отреагирования на клиента («ему нужна была помощь, а мне — деньги, вот мы и договорились на 9 утра, но теперь я его ненавижу, так как всякий раз приходиться вставать по будильнику ни свет ни заря»).
Самое главное, это обеспечит вам представление, о времени и месте. Частная практика немыслима без того, чтобы вы готовы были дать обратившемуся клиенту время и место, на которое он сможет рассчитывать. Если надо и чувствуете силы, снимите/оборудуйте кабинет заранее, до того, как появятся первые клиенты (даже если и в кредит). Заведите ежедневник, чтобы лучше понимать, когда и сколько вы готовы принимать. Если у вас есть вторая/прежняя работа, от неё предстоит отказаться. Это трудный, рискованный и страшный для многих шаг в пропасть, однако раз за разом, наблюдая за начинающими коллегами, я убеждаюсь, что наличие дополнительной деятельности «оттягивает» на себя силы, мешая образованию устойчивой частной практики. Дерзайте. Сделайте ставку на то, что вы психотерапевт в частной практике. Не бухгалтер, не юрист, не учитель на полставки — а психотерапевт. Возьмите время, накопите подушку безопасности на какой-то срок, но станьте практикующим психотерапевтом. Похоже, в противном случае, клиентов будет мало, и они будут уходить, отказываясь от формирования прочного терапевтического альянса.
Далее, нужно, чтобы о вас узнали. Клиент должен узнать, что вы готовы предложить ему помощь, время и место. Никаких чудес: ищущий специалиста, должен знать его имя и контакт для связи как минимум. Тут поможет создание своего сайта, страницы и членство в профессиональных сообществах, профессиональная деятельность, участие в подкастах и программах, написание текстов и статей. Что вам ближе, как вам удобнее, и от чего вас не вырвет (и от чего не вырвет окружающих; например, от излишней активности тоже бывает подташнивает…) Исключительно важным считаю деятельность отношенческую, направленную на знакомство. Неплохо бы вас увидеть, почувствовать как вы работаете, узнать ваше профессиональное (да и личное тоже) кредо. Редко кто обратится, просто найдя вашу страницу. Даже если вы её раскрутили. Кто-то должен вас порекомендовать. Значит, он вас знает и доверяет вам как специалисту. Дайте этому некто вас узнать. Принимайте участие в семинарах, интенсивах, воркшопах, коллегиальных группах, дискуссиях и т. д.
Удачи!
По вопросу невозможно понять на каком именно этапе подготовки находится специалист, желающий начать частную практику. Вы только планируете учиться на психолога или психиатра, а далее на психотерапевта? Вы уже отучились, но пока нет опыта, а хотелось бы начать принимать в частном порядке? А может у вас уже много опыта, но вы работаете на организацию?
Так как возможности уточнить нет, отвечу наиболее полно, исходя из соображения, что вы получили академическое психологическое или медицинское образование, имеете на руках диплом ВУЗа (или находитесь в процессе обучения) и задаётесь вопросом: какие шаги предпринять дальше для становления частной практики?
Во-первых, вам необходимо выбрать направление и подход, в котором развиваться дальше и «сертифицироваться» — получить документ о дополнительном практическом образовании. Попробуйте понять, что вам ближе. Скорее всего, у вас уже есть багаж прочитанного и усвоенного материала, и что-то приглянулось вам больше, отозвалось, вызвало больше интереса.
Какой подход и терапевтическая школа наиболее полно задействует ваши личные качества и особенности взаимодействия, а какой — вступает с ними в противоречие. Вам комфортно молчать? Вам хочется больше привносить свои реакции и мысли в контакт или быть более отстранённым? Какая философская концепция жизни вам ближе всего?
Выбрав подход, следует определиться к кому и как именно вы хотели бы попасть на обучение. Можете не согласиться, но многое в психотерапии и консультировании является ремеслом, поэтому крайне важен и тот, кто обучает вас ремеслу. Обучаясь живописи у Караваджо, я стану художником, отличным от ученика Брейгеля.
Вы можете начать частную практику и будучи просто психологом-консультантом, не обучаясь на психотерапевта в каком-либо подходе. Однако тут есть ряд сложностей: вероятно, вы столкнётесь с проблемами с вхождением в профессиональные сообщества и группы, так как зачастую они требуют сертификата психотерапевта и подтвержденных часов личной терапии и супервизии; разрыв между академической и практической психологией у нас все ещё крайне велик, и скорее всего, вы начнёте испытывать трудности в работе непосредственно с клиентами; самое главное — консультирование не подразумевает формирования устойчивых отношений с клиентом, поэтому практика редко бывает устойчивой.
Итак, вы выбрали направление, обучаетесь в нем или уже даже сертифицировались. Теперь вам стоит позаботиться о сеттинге и рамке, как процессуальной, так и вашей личной. Процессуальную рамку, необходимую для работы с клиентом, осуществляет т. н. терапевтический контракт — условия, на которых вы согласны работать с людьми. Он во многом препятствует образованию неэффективных отношений с клиентом (созависимых, садистических и т. д.), позволяет всем участникам быть максимально открытыми и оставаться в отношениях, создает безопасность и для вас, и для клиента, мешает отреагированию в процессе. Я считаю формирование контракта важнейшей частью частной практики. Конечно, он будет изменяться и корректироваться со временем под воздействием профессионального опыта, ситуаций и вашей позиции.
Личная рамка создаётся через понимание того, как именно вы хотите работать. Сколько вы хотите работать часов в неделю? Сколько вам необходимо зарабатывать для комфортной жизни? Сколько вы хотите выходных в неделю? В какие дни вам некомфортно принимать клиентов? Во сколько вы хотели бы начинать приём и во сколько заканчивать? Где вам было бы комфортнее принимать? Готовы ли вы работать онлайн? И, наконец, как теперь совместить в рабочую схему ответы на вышеприведенные вопросы?
Это позволит вам лучше понять ваши ограничения и возможности, сориентироваться в том, сколько именно клиентов вам надо, избежать выгорания или отреагирования на клиента («ему нужна была помощь, а мне — деньги, вот мы и договорились на 9 утра, но теперь я его ненавижу, так как всякий раз приходиться вставать по будильнику ни свет ни заря»).
Самое главное, это обеспечит вам представление, о времени и месте. Частная практика немыслима без того, чтобы вы готовы были дать обратившемуся клиенту время и место, на которое он сможет рассчитывать. Если надо и чувствуете силы, снимите/оборудуйте кабинет заранее, до того, как появятся первые клиенты (даже если и в кредит). Заведите ежедневник, чтобы лучше понимать, когда и сколько вы готовы принимать. Если у вас есть вторая/прежняя работа, от неё предстоит отказаться. Это трудный, рискованный и страшный для многих шаг в пропасть, однако раз за разом, наблюдая за начинающими коллегами, я убеждаюсь, что наличие дополнительной деятельности «оттягивает» на себя силы, мешая образованию устойчивой частной практики. Дерзайте. Сделайте ставку на то, что вы психотерапевт в частной практике. Не бухгалтер, не юрист, не учитель на полставки — а психотерапевт. Возьмите время, накопите подушку безопасности на какой-то срок, но станьте практикующим психотерапевтом. Похоже, в противном случае, клиентов будет мало, и они будут уходить, отказываясь от формирования прочного терапевтического альянса.
Далее, нужно, чтобы о вас узнали. Клиент должен узнать, что вы готовы предложить ему помощь, время и место. Никаких чудес: ищущий специалиста, должен знать его имя и контакт для связи как минимум. Тут поможет создание своего сайта, страницы и членство в профессиональных сообществах, профессиональная деятельность, участие в подкастах и программах, написание текстов и статей. Что вам ближе, как вам удобнее, и от чего вас не вырвет (и от чего не вырвет окружающих; например, от излишней активности тоже бывает подташнивает…) Исключительно важным считаю деятельность отношенческую, направленную на знакомство. Неплохо бы вас увидеть, почувствовать как вы работаете, узнать ваше профессиональное (да и личное тоже) кредо. Редко кто обратится, просто найдя вашу страницу. Даже если вы её раскрутили. Кто-то должен вас порекомендовать. Значит, он вас знает и доверяет вам как специалисту. Дайте этому некто вас узнать. Принимайте участие в семинарах, интенсивах, воркшопах, коллегиальных группах, дискуссиях и т. д.
Удачи!
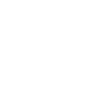
Отвечает Алена Апостолова, экзистенциальный психотерапевт
Из вопроса неясно, говорим ли мы о ребенке, подростке или взрослом человеке .
Воображать, фантазировать присуще каждому человеку. С помощью воображения мы получаем разнообразный опыт переживаний, оставаясь при этом в рамках социально приемлемого поведения. Это способ и возможность прорабатывать излишнее эмоциональное напряжение, разряжая его и компенсируя неудовлетворенные потребности.
В вопросе слышится, что выдуманный мир для автора становится всё более привлекательным. Хочется спросить, чем наполнена реальная жизнь человека?
Возможно, что в повседневной жизни есть что-то, от чего можно «укрыться» только в воображаемом мире, с чем сложно встречаться в действительности. Тогда воображаемый мир — это в большей степени защита и создание своего безопасного пространства, пусть и выдуманного.
Отвечая непосредственно на вопрос «Как научиться оставаться в реальности?», я бы предложила исследовать собственную жизнь «здесь и сейчас», отвечая на вопросы:
Что мне нравится в моей жизни? Из того, что я делаю каждый день, что мне приносит радость и удовольствие? Что бы я хотел изменить?
Возможно, что одна из важных точек для само-исследования, это тема отношений. Ведь безусловно, каждому из нас хочется чувствовать себя понятым и принятым в реальной жизни, а не в выдуманным.
Из вопроса неясно, говорим ли мы о ребенке, подростке или взрослом человеке .
Воображать, фантазировать присуще каждому человеку. С помощью воображения мы получаем разнообразный опыт переживаний, оставаясь при этом в рамках социально приемлемого поведения. Это способ и возможность прорабатывать излишнее эмоциональное напряжение, разряжая его и компенсируя неудовлетворенные потребности.
В вопросе слышится, что выдуманный мир для автора становится всё более привлекательным. Хочется спросить, чем наполнена реальная жизнь человека?
Возможно, что в повседневной жизни есть что-то, от чего можно «укрыться» только в воображаемом мире, с чем сложно встречаться в действительности. Тогда воображаемый мир — это в большей степени защита и создание своего безопасного пространства, пусть и выдуманного.
Отвечая непосредственно на вопрос «Как научиться оставаться в реальности?», я бы предложила исследовать собственную жизнь «здесь и сейчас», отвечая на вопросы:
Что мне нравится в моей жизни? Из того, что я делаю каждый день, что мне приносит радость и удовольствие? Что бы я хотел изменить?
Возможно, что одна из важных точек для само-исследования, это тема отношений. Ведь безусловно, каждому из нас хочется чувствовать себя понятым и принятым в реальной жизни, а не в выдуманным.
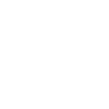
Отвечает Ирина Млодик, детский психолог, экзистенциальный психотерапевт
Вы стыдитесь за свои ошибки в прошлом, полагаю, потому, что сейчас вы бы все сделали по-другому. Теперь, когда вы уже столкнулись с последствиями вашего выбора, вы видите, что судя по всему, выбор был не удачен. И вам стыдно за ту вашу непредусмотрительность.
На самом деле, полагаю, что будучи тем человеком, кем вы были тогда, в тот момент прошлого, вы не могли поступить иначе. Это вам сейчас кажется, что вы могли, но сейчас вы уже обладаете знаниями будущего, которое тогда ещё не наступило, особенно с точки зрения случившихся последствий. Теперь вы стали умнее, взрослее, мудрее, чем тот юный человек, возможно, узнали что-то новое, что-то прочитали в книгах, статьях, открыли в себе новые части личности, научились анализировать, смотреть на ситуацию более объемно. И с высоты этого знания теперь судите и стыдите то молодое существо, которым вы были когда-то. Это как минимум несправедливо, а как максимум — неэффективно.
Долго остающийся в нас стыд, который невозможно пережить до конца и отпустить, не делает нас лучше, не уберегает от новых ошибок, как может показаться. Он просто делает нас плохими, недостойными, и не даёт возможность принять тот простой факт, что и тогда, и сейчас, и в будущем мы будем поступать, исходя из внутреннего и внешнего контекста (из того, какие мы на данный момент и мир вокруг нас). А судить себя будем из другого контекста, из будущего, в котором мы не можем оказаться раньше, чем оно наступит, и потому наши ошибки неизбежны, и никто не может их избежать.
Вы стыдитесь за свои ошибки в прошлом, полагаю, потому, что сейчас вы бы все сделали по-другому. Теперь, когда вы уже столкнулись с последствиями вашего выбора, вы видите, что судя по всему, выбор был не удачен. И вам стыдно за ту вашу непредусмотрительность.
На самом деле, полагаю, что будучи тем человеком, кем вы были тогда, в тот момент прошлого, вы не могли поступить иначе. Это вам сейчас кажется, что вы могли, но сейчас вы уже обладаете знаниями будущего, которое тогда ещё не наступило, особенно с точки зрения случившихся последствий. Теперь вы стали умнее, взрослее, мудрее, чем тот юный человек, возможно, узнали что-то новое, что-то прочитали в книгах, статьях, открыли в себе новые части личности, научились анализировать, смотреть на ситуацию более объемно. И с высоты этого знания теперь судите и стыдите то молодое существо, которым вы были когда-то. Это как минимум несправедливо, а как максимум — неэффективно.
Долго остающийся в нас стыд, который невозможно пережить до конца и отпустить, не делает нас лучше, не уберегает от новых ошибок, как может показаться. Он просто делает нас плохими, недостойными, и не даёт возможность принять тот простой факт, что и тогда, и сейчас, и в будущем мы будем поступать, исходя из внутреннего и внешнего контекста (из того, какие мы на данный момент и мир вокруг нас). А судить себя будем из другого контекста, из будущего, в котором мы не можем оказаться раньше, чем оно наступит, и потому наши ошибки неизбежны, и никто не может их избежать.
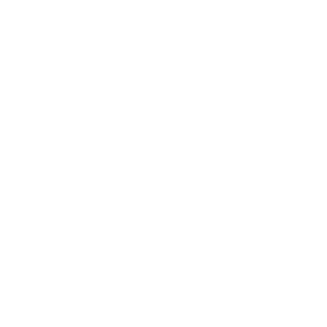
Отвечает Юлия Чудная, психолог
Хорохориться, как толкует словарь С. И. Ожегова, «храбриться, задорно горячиться» - способность, которой владеет не каждый. При завершении отношений она защищает вашу психику от разного рода переживаний, с которыми пока еще невозможно справляться. Амбивалентных, то есть противоположных, чувств в этот период бывает слишком много и способность выдерживать беспокойство, тревогу, разочарование снижается. Хорохориться важно, ровно как грустить и сомневаться.
Когда что-то завершается, освобождается место в психической и объективной реальности, другими словами – «в голове и в жизни». Это место очерчено той самой гранью, которую еще пока сложно уловить.
Попробуйте прислушаться к себе и понять, чем оно стало заполняться. Вы пишете, что «наедине - замечательно», «с собой хорошо и комфортно», «живу так, как хочу». Ощущать одиночество как ресурс, встречаться с собой, понимая желания, это большая привилегия. При этом тревога и беспокойство могут присутствовать параллельно, как верные спутники перемен.
Попытайтесь оценить, что появляется в вашей жизни. Люди, события, что-то, о чем давно мечталось. А возможно, просто тишина и ничегонеделание. В этой пустоте рождается и ощущается граница «до и после», психика дает возможность лучше себя понять и фантазировать о том, кого можно пригласить в новое пространство. Появляется возможность встречи с собственными желаниями и отсутствие контроля за ними со стороны других, возможно, со стороны вашего партнера.
Не торопитесь заполнить ее суетой, наслаждайтесь свободой выбора и в этой точке придет понимание верности вашего решения.
Хорохориться, как толкует словарь С. И. Ожегова, «храбриться, задорно горячиться» - способность, которой владеет не каждый. При завершении отношений она защищает вашу психику от разного рода переживаний, с которыми пока еще невозможно справляться. Амбивалентных, то есть противоположных, чувств в этот период бывает слишком много и способность выдерживать беспокойство, тревогу, разочарование снижается. Хорохориться важно, ровно как грустить и сомневаться.
Когда что-то завершается, освобождается место в психической и объективной реальности, другими словами – «в голове и в жизни». Это место очерчено той самой гранью, которую еще пока сложно уловить.
Попробуйте прислушаться к себе и понять, чем оно стало заполняться. Вы пишете, что «наедине - замечательно», «с собой хорошо и комфортно», «живу так, как хочу». Ощущать одиночество как ресурс, встречаться с собой, понимая желания, это большая привилегия. При этом тревога и беспокойство могут присутствовать параллельно, как верные спутники перемен.
Попытайтесь оценить, что появляется в вашей жизни. Люди, события, что-то, о чем давно мечталось. А возможно, просто тишина и ничегонеделание. В этой пустоте рождается и ощущается граница «до и после», психика дает возможность лучше себя понять и фантазировать о том, кого можно пригласить в новое пространство. Появляется возможность встречи с собственными желаниями и отсутствие контроля за ними со стороны других, возможно, со стороны вашего партнера.
Не торопитесь заполнить ее суетой, наслаждайтесь свободой выбора и в этой точке придет понимание верности вашего решения.
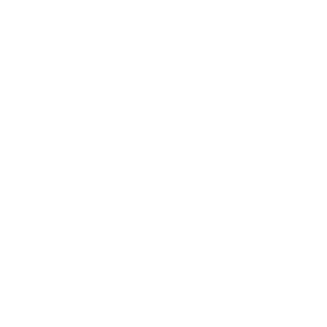
Отвечает магистр психологии Андрей Колосовцев, специалист по системной семейной терапии.
Наверняка, если вы обижены на маму и не хотите с ней общаться, то у Вас для этого есть свои причины. Чаще всего за ситуациями обиды на родителей прячутся горе, надежда, злость, бессилие.
Обижаясь, мы можем бежать от горевания. Ощущение дефицита, что мы что-то недополучили в детстве, бывает практически непереносимым. Понимание, что переделать ничего нельзя несет страдание. Эти утраты трудно принять. Ведь чтобы отгоревать (читайте отпустить обиду) нам нужно сделать громадную психическую болезненную работу. Как минимум, нам нужно «отпустить изо рта «грудь мамы», а это равнозначно столкновению с реальностью: что наше детство не изменишь; что родители уже староваты и не те; что все мы люди и идеального детства не существует; что родители сделали что могли; что мы теперь взрослые и как-то дальше сами. Мы теряем надежду на защищенное и ласковое детство. Надежду, которую мы берегли в себе обижаясь на родителя.
Обида на родителя часто про разочарование. Мы разочарованы, что он не оправдал наших ожиданий. Что он оказался просто обычным человеком. Нам бывает трудно простить сделанные им ошибки. К тому же, чтобы принять, нам необходимо позлиться на родителя. А это не просто, ведь на злость на родителя у многих стоит табу.
За обидами могут прятаться и наши желания, к примеру стать центром вселенной для заботящегося взрослого. Чтобы добиться желаемого мы обижаемся в надежде заставить родителя окружить нас теплом и лаской. Также мы можем обижаться, чтобы достучаться до родителя и дать ему со всей силой прочувствовать нашу боль.
Спастись от пожирающей обиды нам может помочь только завершенная сепарация от родителя. Сепарироваться, это не значит не разговаривать или жить далеко друг от друга. Это в первую очередь значит перестать ожидать от родителя абсолютной и идеальной заботы и вложить свои чувства во взрослые отношения в собственной семье. То есть перестать быть только дочерью, но стать женой и мамой. Сепарироваться это про то, чтобы взять ответственность за свою жизнь.
Такая ответственность позволит, опираясь на себя, простить родителей, выстаивать в обвинениях сестры, разобраться с виной (реальная она или невротическая).
В заключении скажу, что Вам не обязательно жить и мыслить ценностями Вашей сестры. Если сестра уважительно к Вам относится, то она примет и Вашу неготовность общаться с мамой. К тому же в отношениях всегда двое и в том, как складывается ваше взаимодействие с мамой есть не только Ваша ответственность, но и её. Чтобы была близость и теплота в отношениях нужны вложения и усилия обоих.
Я рекомендую Вам обратиться к психологу. С ним вы сможете начать лучше себя понимать и заново прожить, и переосмыслить опыт своего детства. Это поможет Вам принять более взвешенное решение.
Наверняка, если вы обижены на маму и не хотите с ней общаться, то у Вас для этого есть свои причины. Чаще всего за ситуациями обиды на родителей прячутся горе, надежда, злость, бессилие.
Обижаясь, мы можем бежать от горевания. Ощущение дефицита, что мы что-то недополучили в детстве, бывает практически непереносимым. Понимание, что переделать ничего нельзя несет страдание. Эти утраты трудно принять. Ведь чтобы отгоревать (читайте отпустить обиду) нам нужно сделать громадную психическую болезненную работу. Как минимум, нам нужно «отпустить изо рта «грудь мамы», а это равнозначно столкновению с реальностью: что наше детство не изменишь; что родители уже староваты и не те; что все мы люди и идеального детства не существует; что родители сделали что могли; что мы теперь взрослые и как-то дальше сами. Мы теряем надежду на защищенное и ласковое детство. Надежду, которую мы берегли в себе обижаясь на родителя.
Обида на родителя часто про разочарование. Мы разочарованы, что он не оправдал наших ожиданий. Что он оказался просто обычным человеком. Нам бывает трудно простить сделанные им ошибки. К тому же, чтобы принять, нам необходимо позлиться на родителя. А это не просто, ведь на злость на родителя у многих стоит табу.
За обидами могут прятаться и наши желания, к примеру стать центром вселенной для заботящегося взрослого. Чтобы добиться желаемого мы обижаемся в надежде заставить родителя окружить нас теплом и лаской. Также мы можем обижаться, чтобы достучаться до родителя и дать ему со всей силой прочувствовать нашу боль.
Спастись от пожирающей обиды нам может помочь только завершенная сепарация от родителя. Сепарироваться, это не значит не разговаривать или жить далеко друг от друга. Это в первую очередь значит перестать ожидать от родителя абсолютной и идеальной заботы и вложить свои чувства во взрослые отношения в собственной семье. То есть перестать быть только дочерью, но стать женой и мамой. Сепарироваться это про то, чтобы взять ответственность за свою жизнь.
Такая ответственность позволит, опираясь на себя, простить родителей, выстаивать в обвинениях сестры, разобраться с виной (реальная она или невротическая).
В заключении скажу, что Вам не обязательно жить и мыслить ценностями Вашей сестры. Если сестра уважительно к Вам относится, то она примет и Вашу неготовность общаться с мамой. К тому же в отношениях всегда двое и в том, как складывается ваше взаимодействие с мамой есть не только Ваша ответственность, но и её. Чтобы была близость и теплота в отношениях нужны вложения и усилия обоих.
Я рекомендую Вам обратиться к психологу. С ним вы сможете начать лучше себя понимать и заново прожить, и переосмыслить опыт своего детства. Это поможет Вам принять более взвешенное решение.
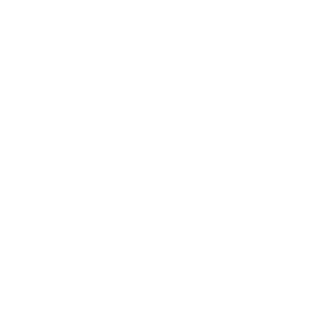
Отвечает Юлия Чудная, психолог
В вашем вопросе содержится и ответ. С учетом уровня образования (в том числе и 15 курсов повышения квалификации, а это не мало часов) , практической работы с детьми младшего возраста, вы уже являетесь специалистом. Предположу, что применяете свои навыки не там, где это приносит вам удовольствие и не там, где вы самостоятельно распоряжаетесь своим временем и доходами. И не в среде единомышленников.
Вы описываете очень востребованные умения- учитель, организатор , репетитор. В частной образовательной среде, которая сейчас активно замещает государственную, такие люди на вес золота. Там вы будете « в своей тарелке» и там будет полноценный рост в профессии.
Просто « видеть» себя психологом» недостаточно, это как видеть еду, но не пробовать ее на вкус. Нужно попробовать, отслеживая собственные ощущения. Что приносит вам радость – организация процесса, управление потоками -тогда, возможно, вы- крутой администратор в детском центре ( за такими охотятся и их берегут), индивидуальная работа с ребенком , и его достижения , вам нравится вкладываться в личность, играть с ним-тогда вы , возможно, узкий востребованный специалист по работе с детьми. Или вы умеете классно преподавать начальной школе русский язык – благодарные родители будут ваш телефон передавать « по секрету».
Нужно начать пробовать и там, где очень сложно, но очень интересно, где вы будете уставать , но глаза загорятся, обязательно найдется « то самое». Не стоит находиться в месте, где вам плохо, еще и с отсутствием перспектив роста, что чревато профессиональным выгоранием.
На Площадке есть прекрасный обучающий курс «Детская комната», возможно, он поможет вам определиться, ну а мы всегда поддержим.
В вашем вопросе содержится и ответ. С учетом уровня образования (в том числе и 15 курсов повышения квалификации, а это не мало часов) , практической работы с детьми младшего возраста, вы уже являетесь специалистом. Предположу, что применяете свои навыки не там, где это приносит вам удовольствие и не там, где вы самостоятельно распоряжаетесь своим временем и доходами. И не в среде единомышленников.
Вы описываете очень востребованные умения- учитель, организатор , репетитор. В частной образовательной среде, которая сейчас активно замещает государственную, такие люди на вес золота. Там вы будете « в своей тарелке» и там будет полноценный рост в профессии.
Просто « видеть» себя психологом» недостаточно, это как видеть еду, но не пробовать ее на вкус. Нужно попробовать, отслеживая собственные ощущения. Что приносит вам радость – организация процесса, управление потоками -тогда, возможно, вы- крутой администратор в детском центре ( за такими охотятся и их берегут), индивидуальная работа с ребенком , и его достижения , вам нравится вкладываться в личность, играть с ним-тогда вы , возможно, узкий востребованный специалист по работе с детьми. Или вы умеете классно преподавать начальной школе русский язык – благодарные родители будут ваш телефон передавать « по секрету».
Нужно начать пробовать и там, где очень сложно, но очень интересно, где вы будете уставать , но глаза загорятся, обязательно найдется « то самое». Не стоит находиться в месте, где вам плохо, еще и с отсутствием перспектив роста, что чревато профессиональным выгоранием.
На Площадке есть прекрасный обучающий курс «Детская комната», возможно, он поможет вам определиться, ну а мы всегда поддержим.
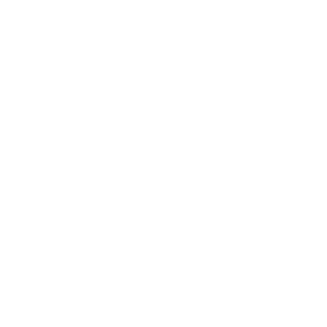
Отвечает Мария Волошина, клинический психолог, психотерапевт, супервизор
Для начала хочется сказать, что возможность испытывать сомнения и неуверенность — это хорошая способность, особенно у нашей профессии, где мы имеем дело с внутренним миром другого человека. Следовательно, никогда наверняка не можем знать всего о том, как там у другого устроено. Мы все время сомневаемся в терапии, пробуем, продвигаемся, стоим, совершаем ошибки, ждем. Особенно много сомнений в работе со сложными клиентами, которые будто усиливают наши сомнения, и в контрпереносе мы можем чувствовать их острее и объёмнее.
Сложные случаи — всегда потенциал большого профессионального роста, но важно слышать свои сомнения. Если к сложному случаю Вашего потенциального клиента Вам трудно эмоционально подсоединиться, если многое кажется странным и противоестественным для Вас, есть сильные негативные чувства, то это может быть знаком, что лучше отправить его к другому специалисту. Если речь идет об ощущении, что не хватает опыта, но есть интерес, то почему не взять, но не забывать при этом про обязательные условия нашей работы — супервизию и личную терапию.
Как показывает практика, свои сложные случаи клиенты часто приносят начинающим специалистам, потому что с одной стороны, у них есть желание много работать и энтузиазм неофита, что работает на руку рабочему альянсу и продуктивности терапии. С другой стороны, опытный специалист может быстрее увидеть потенциальные сложности будущей работы и усилия, которые она будет требовать, и из разных соображений может уже не хотеть идти этот сложный путь.
Может еще скажу немного парадоксальную вещь, но у нас не может быть «достаточной» компетенции в отношении другого человека, потому что не мы создали его, выносили в своей утробе, участвовали годами в его развитии. И пресловутый страх недостаточной квалификации может помогать нам развиваться в профессии, размышлять, углубляться, расти и никогда не останавливаться в познании глубин психики.
Для начала хочется сказать, что возможность испытывать сомнения и неуверенность — это хорошая способность, особенно у нашей профессии, где мы имеем дело с внутренним миром другого человека. Следовательно, никогда наверняка не можем знать всего о том, как там у другого устроено. Мы все время сомневаемся в терапии, пробуем, продвигаемся, стоим, совершаем ошибки, ждем. Особенно много сомнений в работе со сложными клиентами, которые будто усиливают наши сомнения, и в контрпереносе мы можем чувствовать их острее и объёмнее.
Сложные случаи — всегда потенциал большого профессионального роста, но важно слышать свои сомнения. Если к сложному случаю Вашего потенциального клиента Вам трудно эмоционально подсоединиться, если многое кажется странным и противоестественным для Вас, есть сильные негативные чувства, то это может быть знаком, что лучше отправить его к другому специалисту. Если речь идет об ощущении, что не хватает опыта, но есть интерес, то почему не взять, но не забывать при этом про обязательные условия нашей работы — супервизию и личную терапию.
Как показывает практика, свои сложные случаи клиенты часто приносят начинающим специалистам, потому что с одной стороны, у них есть желание много работать и энтузиазм неофита, что работает на руку рабочему альянсу и продуктивности терапии. С другой стороны, опытный специалист может быстрее увидеть потенциальные сложности будущей работы и усилия, которые она будет требовать, и из разных соображений может уже не хотеть идти этот сложный путь.
Может еще скажу немного парадоксальную вещь, но у нас не может быть «достаточной» компетенции в отношении другого человека, потому что не мы создали его, выносили в своей утробе, участвовали годами в его развитии. И пресловутый страх недостаточной квалификации может помогать нам развиваться в профессии, размышлять, углубляться, расти и никогда не останавливаться в познании глубин психики.
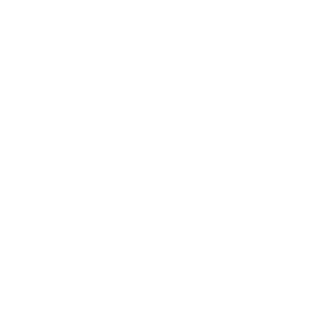
Отвечает Мария Чистосердова, экзистенциальный психолог
Для начала хочется сказать, что возможность испытывать сомнения и неуверенность — это хорошая способность, особенно у нашей профессии, где мы имеем дело с внутренним миром другого человека. Следовательно, никогда наверняка не можем знать всего о том, как там у другого устроено. Мы все время сомневаемся в терапии, пробуем, продвигаемся, стоим, совершаем ошибки, ждем. Особенно много сомнений в работе со сложными клиентами, которые будто усиливают наши сомнения, и в контрпереносе мы можем чувствовать их острее и объёмнее.
Сложные случаи — всегда потенциал большого профессионального роста, но важно слышать свои сомнения. Если к сложному случаю Вашего потенциального клиента Вам трудно эмоционально подсоединиться, если многое кажется странным и противоестественным для Вас, есть сильные негативные чувства, то это может быть знаком, что лучше отправить его к другому специалисту. Если речь идет об ощущении, что не хватает опыта, но есть интерес, то почему не взять, но не забывать при этом про обязательные условия нашей работы — супервизию и личную терапию.
Как показывает практика, свои сложные случаи клиенты часто приносят начинающим специалистам, потому что с одной стороны, у них есть желание много работать и энтузиазм неофита, что работает на руку рабочему альянсу и продуктивности терапии. С другой стороны, опытный специалист может быстрее увидеть потенциальные сложности будущей работы и усилия, которые она будет требовать, и из разных соображений может уже не хотеть идти этот сложный путь.
Может еще скажу немного парадоксальную вещь, но у нас не может быть «достаточной» компетенции в отношении другого человека, потому что не мы создали его, выносили в своей утробе, участвовали годами в его развитии. И пресловутый страх недостаточной квалификации может помогать нам развиваться в профессии, размышлять, углубляться, расти и никогда не останавливаться в познании глубин психики.
Для начала хочется сказать, что возможность испытывать сомнения и неуверенность — это хорошая способность, особенно у нашей профессии, где мы имеем дело с внутренним миром другого человека. Следовательно, никогда наверняка не можем знать всего о том, как там у другого устроено. Мы все время сомневаемся в терапии, пробуем, продвигаемся, стоим, совершаем ошибки, ждем. Особенно много сомнений в работе со сложными клиентами, которые будто усиливают наши сомнения, и в контрпереносе мы можем чувствовать их острее и объёмнее.
Сложные случаи — всегда потенциал большого профессионального роста, но важно слышать свои сомнения. Если к сложному случаю Вашего потенциального клиента Вам трудно эмоционально подсоединиться, если многое кажется странным и противоестественным для Вас, есть сильные негативные чувства, то это может быть знаком, что лучше отправить его к другому специалисту. Если речь идет об ощущении, что не хватает опыта, но есть интерес, то почему не взять, но не забывать при этом про обязательные условия нашей работы — супервизию и личную терапию.
Как показывает практика, свои сложные случаи клиенты часто приносят начинающим специалистам, потому что с одной стороны, у них есть желание много работать и энтузиазм неофита, что работает на руку рабочему альянсу и продуктивности терапии. С другой стороны, опытный специалист может быстрее увидеть потенциальные сложности будущей работы и усилия, которые она будет требовать, и из разных соображений может уже не хотеть идти этот сложный путь.
Может еще скажу немного парадоксальную вещь, но у нас не может быть «достаточной» компетенции в отношении другого человека, потому что не мы создали его, выносили в своей утробе, участвовали годами в его развитии. И пресловутый страх недостаточной квалификации может помогать нам развиваться в профессии, размышлять, углубляться, расти и никогда не останавливаться в познании глубин психики.
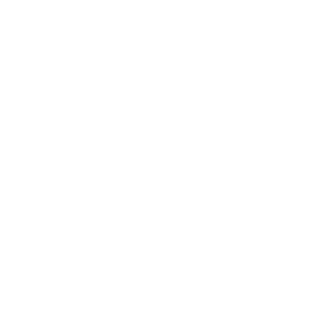
В вопросе нет уточнения про возраст, но возможно, что девочке 12-13 лет, то есть месячные начались не так давно и девушка психологически ещё не адаптировалась к циклу.
Важно принимать переживания подрастающей девушки, признавать дискомфорт и мягко подсказывать, как можно его уменьшать - позволить не пойти в школу в первый день месячных, полежать, больше уделить дочке внимания, как-то легко и приятно провести время - поболтать, послушать музыку с ней, посмотреть душевное кино, почитать вместе. Уверенность и поддержка мамы ( старшей сестры, бабушки, тети - любой любящей старшей женщины ) - будет очень важной, снизит напряжение. Чем больше принятия девушка получит от старших женщин, тем мягче и быстрее может произойти принятие нового этапа в жизни юной женщины.
Если боли сильные - посоветуйтесь с врачом, какими обезболивающими облегчить состояние. Часто снизить боль помогают и простые приемы - подержать руку на животе, выпить тёплое питье, минуты две подышать таким образом, чтобы выдохи были в два раза длиннее, чем вдохи.
Скажите дочке, что организм постепенно адаптируется, а Вы будете ей помогать.
Если девочка будет спрашивать о перевязке труб - не пугайтесь. Это может быть проверка Вас на прочность, манипуляция. А может быть и любопытство, смешанное с непониманием. Объясните, что эта операция не отменяет месячные. И что есть вещи, которые необратимы, их не вернуть назад, поэтому такие операции врачи проводят только женщинам, которые уже имеют детей или по медицинским показаниям.
Высыпания на коже действительно очень досаждают. Можно помочь девушке составить систему ухода за кожей, помочь выбрать средства, это может быть приятным общим временем для мамы и дочки. Возможно, стоит обратиться к специалисту для подбора средств.
В целом, очень сильное влияние на девочек имеет то, как мама относится к себе, как воспринимает свое тело, материнство и вообще себя как женщину. Как мучение и надрыв или как радость, возможность и удовольствие? Конечно, в жизни нет черно-белых картинок, но что доминирует в восприятии матери самой себя- это в серьёзной степени влияет на отношение девушки к своему телу и процессам в нем.
И последнее - существуют курсы для девушек - подростков, которые ведут врачи, психологи, нутрициологи, косметологи. Спросите рекомендации у тех, кому доверяете или поищите вместе с дочкой интересные программы.
Важно принимать переживания подрастающей девушки, признавать дискомфорт и мягко подсказывать, как можно его уменьшать - позволить не пойти в школу в первый день месячных, полежать, больше уделить дочке внимания, как-то легко и приятно провести время - поболтать, послушать музыку с ней, посмотреть душевное кино, почитать вместе. Уверенность и поддержка мамы ( старшей сестры, бабушки, тети - любой любящей старшей женщины ) - будет очень важной, снизит напряжение. Чем больше принятия девушка получит от старших женщин, тем мягче и быстрее может произойти принятие нового этапа в жизни юной женщины.
Если боли сильные - посоветуйтесь с врачом, какими обезболивающими облегчить состояние. Часто снизить боль помогают и простые приемы - подержать руку на животе, выпить тёплое питье, минуты две подышать таким образом, чтобы выдохи были в два раза длиннее, чем вдохи.
Скажите дочке, что организм постепенно адаптируется, а Вы будете ей помогать.
Если девочка будет спрашивать о перевязке труб - не пугайтесь. Это может быть проверка Вас на прочность, манипуляция. А может быть и любопытство, смешанное с непониманием. Объясните, что эта операция не отменяет месячные. И что есть вещи, которые необратимы, их не вернуть назад, поэтому такие операции врачи проводят только женщинам, которые уже имеют детей или по медицинским показаниям.
Высыпания на коже действительно очень досаждают. Можно помочь девушке составить систему ухода за кожей, помочь выбрать средства, это может быть приятным общим временем для мамы и дочки. Возможно, стоит обратиться к специалисту для подбора средств.
В целом, очень сильное влияние на девочек имеет то, как мама относится к себе, как воспринимает свое тело, материнство и вообще себя как женщину. Как мучение и надрыв или как радость, возможность и удовольствие? Конечно, в жизни нет черно-белых картинок, но что доминирует в восприятии матери самой себя- это в серьёзной степени влияет на отношение девушки к своему телу и процессам в нем.
И последнее - существуют курсы для девушек - подростков, которые ведут врачи, психологи, нутрициологи, косметологи. Спросите рекомендации у тех, кому доверяете или поищите вместе с дочкой интересные программы.
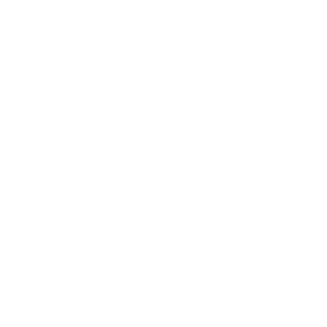
Отвечает Юлия Чудная, психолог
Я думала об ответе на этот вопрос, фантазируя о неизвестной мне маме. Сколько лет ее ребенку, есть ли у него возможность быть в социуме , столкнулась ли мама со стигматизацией. Потом я предположила, что это педагог в школе , очень уставший педагог, который все понимает, но поставлен в рамки и не имеет возможности обучиться, которому трудно все новое , но он бы хотел. В последнюю очередь у меня закралась мысль, возможно, это коллега, который ищет подтверждение своей роли в чьей-то судьбе, но не знает, на что опереться.
2. Правильная инклюзия .
Инклюзия — это трансформация образовательной среды, в том числе методическая, дидактическая, организационная.
Правильная инклюзия не создаёт проблем ни детям с особенностями развития, ни нормотипичным сверстникам, ни педагогам. Наоборот, она открывает новые возможности и формирует дополнительные полезные навыки у всех участников процесса.
К сожалению, в России пока катастрофически не хватает знаний об организации правильного инклюзивного школьного образования. Единственный прорывной в этом плане проект это Инклюзивный наблюдатель. https://autismchallenge.ru/inclusive_observer
«Обычные» дети с первого класса знают, что это их одноклассники, они такие, и другого опыта у них нет. Они сразу пришли в школу, где есть такие ребята, и другого они не знают, а просто живут с этим как с совершенно обычной частью жизни. А у их родителей, например, другая история — у них не было в классе детей с ОВЗ. Понятно, что у них есть предубеждения.
Я проходила такой формат, отдав сына в частную школу. Тогда было далеко до называния процесса « инклюзией», нам просто повезло с педагогом. 5 лет дети знали, что это- ученик их класса и у него есть сложности. Повезло с родителями детей, никто не старался нас вышвырнуть . Пытались ли? Да. Одна из десяти и директор отказала им в месте.
Нас в итоге отправили в корррекционку , это было жесто и горько, отдельная история, но, возвращаясь к опыту- он огромный для моего сына . И для тех детей, которые были с ним 5 лет , не сомневаюсь, тоже.
3. Почему это важно для всех?
Хорошая инклюзия - это ритуал, укрепляющий в реальности всех участников процесса. В реальности обыденной жизни, где каждый улучшает свою способность с ней сталкиваться. «Обычные» дети учатся сострадать, знать, встречаться ,злиться, отбрасывать, принимать. Как и в жизни. Есть клинические исследования и это отдельная тема. « Необычные» дети учатся быть в среде и осваивать навыки. Специалисты растут, обрабатывая новые коммуникативные связи, педагоги думают. И это не идеальная картинка , это возможно.
4. Главное. Кто запрашивает инклюзию? Родитель. Кто может обустроить и контролировать? Родитель. Кто отвечает? Отвечает тот, кто подписал договор.
5. На чем простроена Инклюзия?
13 декабря 2006-го года Генассамблея ООН ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов. И как любая ратификации, она требует имплементации основных положений в локальном законодательстве. В нашем случае – в российском. Ратификация стала триггером для создания нового федерального закона об образовании, который исключил понятие необучаемости в принципе. Это хорошо, потому что необучаемых детей не бывает.
6. На что опираться, когда нет сил?
На Закон , на сообщество. Пойти в терапию.
7. Почему я об этом говорю.
Моему сыну 19. Его диагноз сделал меня специалистом. Мы прошли много и я знаю, как могут обстоять дела у мам трехлеток.
Я думала об ответе на этот вопрос, фантазируя о неизвестной мне маме. Сколько лет ее ребенку, есть ли у него возможность быть в социуме , столкнулась ли мама со стигматизацией. Потом я предположила, что это педагог в школе , очень уставший педагог, который все понимает, но поставлен в рамки и не имеет возможности обучиться, которому трудно все новое , но он бы хотел. В последнюю очередь у меня закралась мысль, возможно, это коллега, который ищет подтверждение своей роли в чьей-то судьбе, но не знает, на что опереться.
- Какой инклюзия быть не должна и ею не является?
2. Правильная инклюзия .
Инклюзия — это трансформация образовательной среды, в том числе методическая, дидактическая, организационная.
Правильная инклюзия не создаёт проблем ни детям с особенностями развития, ни нормотипичным сверстникам, ни педагогам. Наоборот, она открывает новые возможности и формирует дополнительные полезные навыки у всех участников процесса.
К сожалению, в России пока катастрофически не хватает знаний об организации правильного инклюзивного школьного образования. Единственный прорывной в этом плане проект это Инклюзивный наблюдатель. https://autismchallenge.ru/inclusive_observer
«Обычные» дети с первого класса знают, что это их одноклассники, они такие, и другого опыта у них нет. Они сразу пришли в школу, где есть такие ребята, и другого они не знают, а просто живут с этим как с совершенно обычной частью жизни. А у их родителей, например, другая история — у них не было в классе детей с ОВЗ. Понятно, что у них есть предубеждения.
Я проходила такой формат, отдав сына в частную школу. Тогда было далеко до называния процесса « инклюзией», нам просто повезло с педагогом. 5 лет дети знали, что это- ученик их класса и у него есть сложности. Повезло с родителями детей, никто не старался нас вышвырнуть . Пытались ли? Да. Одна из десяти и директор отказала им в месте.
Нас в итоге отправили в корррекционку , это было жесто и горько, отдельная история, но, возвращаясь к опыту- он огромный для моего сына . И для тех детей, которые были с ним 5 лет , не сомневаюсь, тоже.
3. Почему это важно для всех?
Хорошая инклюзия - это ритуал, укрепляющий в реальности всех участников процесса. В реальности обыденной жизни, где каждый улучшает свою способность с ней сталкиваться. «Обычные» дети учатся сострадать, знать, встречаться ,злиться, отбрасывать, принимать. Как и в жизни. Есть клинические исследования и это отдельная тема. « Необычные» дети учатся быть в среде и осваивать навыки. Специалисты растут, обрабатывая новые коммуникативные связи, педагоги думают. И это не идеальная картинка , это возможно.
4. Главное. Кто запрашивает инклюзию? Родитель. Кто может обустроить и контролировать? Родитель. Кто отвечает? Отвечает тот, кто подписал договор.
5. На чем простроена Инклюзия?
13 декабря 2006-го года Генассамблея ООН ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов. И как любая ратификации, она требует имплементации основных положений в локальном законодательстве. В нашем случае – в российском. Ратификация стала триггером для создания нового федерального закона об образовании, который исключил понятие необучаемости в принципе. Это хорошо, потому что необучаемых детей не бывает.
6. На что опираться, когда нет сил?
На Закон , на сообщество. Пойти в терапию.
7. Почему я об этом говорю.
Моему сыну 19. Его диагноз сделал меня специалистом. Мы прошли много и я знаю, как могут обстоять дела у мам трехлеток.
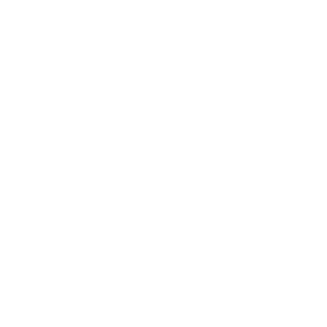
Здравствуйте. Спасибо за вопрос. Действительно, работа педагога частного сада имеет свои особенности.
За основу я возьму образ обобщенного детского сада и сада государственного. Конечно, в любом из этих сегментов могут встречаться исключения, обладающие как позитивными, так и ярко отрицательными чертами.
1. И в частном, и в государственном саду работа педагога сильно зависит от руководства организации. Здесь очень важна позиция директора и его принципы работы. Гораздо лучше и интереснее работается в коллективе, где царит порядок и ясны правила, где соблюдается субординация всеми участниками процесса. Если заведующий сада стремится к улучшению своей организации, не препятствует ее развитию, способствует обучению и профессиональному росту педагогов, то работа специалистов может приносить удовлетворение и удовольствие. В частных садах такие заинтересованные директора встречаются гораздо чаще, т. к. изначально идея создания детского сада часто лежит в плоскости ценностей Детства. И если раньше это было интеллектуальное развитие, то последние 5-10 лет это раскрытие в ребенке эмоционально-творческого потенциала, его личностных качеств через гуманистические принципы.
2. В госсаду педагоги сталкиваются с большим количеством отчетной работы. Эта деятельность съедает время, отведенное на работу с ребенком. А так как детей в группе много, то и работа с ними больше стремится к уходу и присмотру, времени на создание качественных отношений с ребенком почти не остается. В частном саду напротив, детей в группе не так много, отчетной работы в разы меньше, поэтому есть возможность поближе узнавать ребенка и его семью и работать с ними, учитывая их особенности и потребности.
3. В частном секторе педагог может выбрать работу по своим способностям. Кто-то любит работать в Монтессори системе, кто-то в традиционной, но с углубленным изучением, например, творчества или иностранного языка. Как правило руководство частных садов открыто к новым идеям, предложениям, касающихся работы с детьми. Там это легче организовать и есть возможность оплатить.
4. В частном саду все же больше работы с родителями. Семья, которая выбирает своему ребенку платный садик, рассчитывает на более развернутую обратную связь по развитию и пребыванию в саду своего чада. Поэтому педагогу важно уметь грамотно отражать процессы ребенка, вовлекать родителей и одновременно держать нужную дистанцию, чтобы отношения строились понятно и открыто.
5. В частном саду зачастую у ребенка больше различных свобод. Это значит, что он больше имеет выбора, возможности своего темпа и ритма, адаптация зачастую происходит тоже в щадящем режиме. Там дети могут сами предлагать идеи занятий, темы разговоров и деятельности. Могут обращаться к разным специалистам сада без страха и стеснения, рассчитывая, что те пойдут к ним на встречу. В госсаду более директивная система воспитания, от детей требуется вписываться в требования и ожидания от них взрослых. Важно, чтоб ребенок слушался и не приносил неудобства, потому что детей много, и отвлекаться на одного просто нет возможности. С другой стороны, в частных садах бывает обратная картина: в стремлении выполнять желания детей и родителей, воспитательная система правил может быть не продумана. Это неполезно и приводит к хаосу. Быть частью коллектива и выполнять правила — важный навык, который впоследствии в любом случае пригодится в жизни. Главное, чтоб это не шло в разрез с развитием творческого потенциала ребенка и формированием его личности.
6. Выгорание больше свойственно работникам государственных учреждений. В основном это происходит из-за большого количества детей в группах, это истощает, нет возможности корректировать график работы и нагрузку. В частном саду директора обычно держат во внимании эмоциональное состояние педагога, могут оказать необходимую помощь, привлечь дополнительно родителей и специалистов к работе с ребенком в трудных ситуациях.
7. Все же требования, предъявляемые к работнику частного сада, завышены относительно государственного сада. Это и понятно. Требования общества, и в частности родителей, к воспитателю сада, за который они платят немаленькие деньги, достаточно высоки. Поэтому воспитателю в таких садах недостаточно просто качественно оказывать присмотр и уход, а важно быть интересной личностью, уметь устанавливать контакт с детьми, знать возрастные особенности детей, уметь принимать детей разными с их особенностями, уметь отвечать на родительские вопросы. Ну и конечно любить тех, с кем работают. Современные родители хотят видеть рядом со своим ребенком человека интересующегося, стремящегося к развитию, любящего свою работу.
И конечно, любому педагогу важно понимать, что работа с детьми очень трудна и энергозатратна. И чтобы сохранить свое психологическое состояние в норме, не выгорать, важно уметь заботиться о себе. Понимать и грамотно распределять нагрузку, просить по необходимости помощи у специалистов, сохранять интерес через обучения курсы повышения квалификации, работать со своей стрессоустойчивостью, уходить вовремя в отпуск, уметь переключаться с работы на свою личную жизнь.
За основу я возьму образ обобщенного детского сада и сада государственного. Конечно, в любом из этих сегментов могут встречаться исключения, обладающие как позитивными, так и ярко отрицательными чертами.
1. И в частном, и в государственном саду работа педагога сильно зависит от руководства организации. Здесь очень важна позиция директора и его принципы работы. Гораздо лучше и интереснее работается в коллективе, где царит порядок и ясны правила, где соблюдается субординация всеми участниками процесса. Если заведующий сада стремится к улучшению своей организации, не препятствует ее развитию, способствует обучению и профессиональному росту педагогов, то работа специалистов может приносить удовлетворение и удовольствие. В частных садах такие заинтересованные директора встречаются гораздо чаще, т. к. изначально идея создания детского сада часто лежит в плоскости ценностей Детства. И если раньше это было интеллектуальное развитие, то последние 5-10 лет это раскрытие в ребенке эмоционально-творческого потенциала, его личностных качеств через гуманистические принципы.
2. В госсаду педагоги сталкиваются с большим количеством отчетной работы. Эта деятельность съедает время, отведенное на работу с ребенком. А так как детей в группе много, то и работа с ними больше стремится к уходу и присмотру, времени на создание качественных отношений с ребенком почти не остается. В частном саду напротив, детей в группе не так много, отчетной работы в разы меньше, поэтому есть возможность поближе узнавать ребенка и его семью и работать с ними, учитывая их особенности и потребности.
3. В частном секторе педагог может выбрать работу по своим способностям. Кто-то любит работать в Монтессори системе, кто-то в традиционной, но с углубленным изучением, например, творчества или иностранного языка. Как правило руководство частных садов открыто к новым идеям, предложениям, касающихся работы с детьми. Там это легче организовать и есть возможность оплатить.
4. В частном саду все же больше работы с родителями. Семья, которая выбирает своему ребенку платный садик, рассчитывает на более развернутую обратную связь по развитию и пребыванию в саду своего чада. Поэтому педагогу важно уметь грамотно отражать процессы ребенка, вовлекать родителей и одновременно держать нужную дистанцию, чтобы отношения строились понятно и открыто.
5. В частном саду зачастую у ребенка больше различных свобод. Это значит, что он больше имеет выбора, возможности своего темпа и ритма, адаптация зачастую происходит тоже в щадящем режиме. Там дети могут сами предлагать идеи занятий, темы разговоров и деятельности. Могут обращаться к разным специалистам сада без страха и стеснения, рассчитывая, что те пойдут к ним на встречу. В госсаду более директивная система воспитания, от детей требуется вписываться в требования и ожидания от них взрослых. Важно, чтоб ребенок слушался и не приносил неудобства, потому что детей много, и отвлекаться на одного просто нет возможности. С другой стороны, в частных садах бывает обратная картина: в стремлении выполнять желания детей и родителей, воспитательная система правил может быть не продумана. Это неполезно и приводит к хаосу. Быть частью коллектива и выполнять правила — важный навык, который впоследствии в любом случае пригодится в жизни. Главное, чтоб это не шло в разрез с развитием творческого потенциала ребенка и формированием его личности.
6. Выгорание больше свойственно работникам государственных учреждений. В основном это происходит из-за большого количества детей в группах, это истощает, нет возможности корректировать график работы и нагрузку. В частном саду директора обычно держат во внимании эмоциональное состояние педагога, могут оказать необходимую помощь, привлечь дополнительно родителей и специалистов к работе с ребенком в трудных ситуациях.
7. Все же требования, предъявляемые к работнику частного сада, завышены относительно государственного сада. Это и понятно. Требования общества, и в частности родителей, к воспитателю сада, за который они платят немаленькие деньги, достаточно высоки. Поэтому воспитателю в таких садах недостаточно просто качественно оказывать присмотр и уход, а важно быть интересной личностью, уметь устанавливать контакт с детьми, знать возрастные особенности детей, уметь принимать детей разными с их особенностями, уметь отвечать на родительские вопросы. Ну и конечно любить тех, с кем работают. Современные родители хотят видеть рядом со своим ребенком человека интересующегося, стремящегося к развитию, любящего свою работу.
И конечно, любому педагогу важно понимать, что работа с детьми очень трудна и энергозатратна. И чтобы сохранить свое психологическое состояние в норме, не выгорать, важно уметь заботиться о себе. Понимать и грамотно распределять нагрузку, просить по необходимости помощи у специалистов, сохранять интерес через обучения курсы повышения квалификации, работать со своей стрессоустойчивостью, уходить вовремя в отпуск, уметь переключаться с работы на свою личную жизнь.
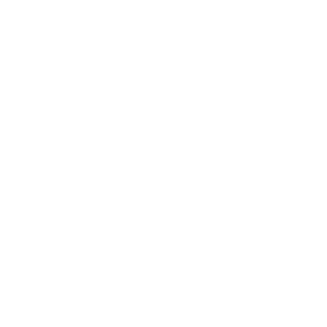
Отвечает Мария Волошина, клинический психолог, психотерапевт, супервизор
Сказать, что ситуации, когда Клиент находится
в сильных чувствах, особенно если эти чувства агрессивные, могут быть мало затратными для терапевта — будет не правдой. Это, как правило, весьма непросто.
Думаю, первый шаг может быть в том, чтобы признать, что это может как минимум вызывать внутри реакцию, как максимум — истощать, если это длится из сессии в сессию и требовать больших ресурсов.
Одна из важных составляющих в терапии — это поиск понимания различных внутренних процессов. И тех, которые происходят с клиентом, и тех, что происходят с терапевтом во время встречи с клиентом, и тех, что происходят между ними. Становится легче, когда понимаем, что именно происходит. Поэтому, если вы задаете себе вопросы о том, что именно происходит с вами в отношениях с этим человеком: злитесь ли в ответ, чувствуете беспомощность, униженность, обиду и т.д., это будет в какой-то степени облегчать груз, который ложится на ваши плечи в работе, потому что будет становится в переносе ключиком к глубоким тяжелым переживаниям клиента, от которых он спастись, отдавая частично вам. В этом также может быть и надежда клиента на то, что появится кто-то кто, наконец выдержит эту бурю чувств, сможет устоять и не ответит тем же, не отомстит, не бросит, не откажется. Я бы даже сказала, что если Ваш клиент может переживать и выражать свои агрессивные чувства рядом с Вами, то это может стать хорошим материалом для работы, позволит понять что-то о той боли и страданиях, которые выражают эти чувства, и об опыте и отношениях, из которых они выросли.
Еще один вопрос, который можно пробовать исследовать в этой ситуации, — это вопрос о том, на что именно уходит ресурс терапевта. Что именно тяжело? Почему гнев становится для Вас разрушителен, например? Атаку на какие именно аспекты вашей личности или способа взаимодействия трудней всего выдерживать? Другими словами, какие свои стороны проецирует на Вас клиент в острый момент?
Различные тактики работы с аффективными бурями достаточного многообразно описаны в психодинамическом подходе, где работе с агрессией уделяется большое внимание. Можно обратиться к этим источникам, работам Н.МакВильямс, О. Кернберга в части переживания аффектов при различных типах характеров, агрессии при расстройствах личности.
Сказать, что ситуации, когда Клиент находится
в сильных чувствах, особенно если эти чувства агрессивные, могут быть мало затратными для терапевта — будет не правдой. Это, как правило, весьма непросто.
Думаю, первый шаг может быть в том, чтобы признать, что это может как минимум вызывать внутри реакцию, как максимум — истощать, если это длится из сессии в сессию и требовать больших ресурсов.
Одна из важных составляющих в терапии — это поиск понимания различных внутренних процессов. И тех, которые происходят с клиентом, и тех, что происходят с терапевтом во время встречи с клиентом, и тех, что происходят между ними. Становится легче, когда понимаем, что именно происходит. Поэтому, если вы задаете себе вопросы о том, что именно происходит с вами в отношениях с этим человеком: злитесь ли в ответ, чувствуете беспомощность, униженность, обиду и т.д., это будет в какой-то степени облегчать груз, который ложится на ваши плечи в работе, потому что будет становится в переносе ключиком к глубоким тяжелым переживаниям клиента, от которых он спастись, отдавая частично вам. В этом также может быть и надежда клиента на то, что появится кто-то кто, наконец выдержит эту бурю чувств, сможет устоять и не ответит тем же, не отомстит, не бросит, не откажется. Я бы даже сказала, что если Ваш клиент может переживать и выражать свои агрессивные чувства рядом с Вами, то это может стать хорошим материалом для работы, позволит понять что-то о той боли и страданиях, которые выражают эти чувства, и об опыте и отношениях, из которых они выросли.
Еще один вопрос, который можно пробовать исследовать в этой ситуации, — это вопрос о том, на что именно уходит ресурс терапевта. Что именно тяжело? Почему гнев становится для Вас разрушителен, например? Атаку на какие именно аспекты вашей личности или способа взаимодействия трудней всего выдерживать? Другими словами, какие свои стороны проецирует на Вас клиент в острый момент?
Различные тактики работы с аффективными бурями достаточного многообразно описаны в психодинамическом подходе, где работе с агрессией уделяется большое внимание. Можно обратиться к этим источникам, работам Н.МакВильямс, О. Кернберга в части переживания аффектов при различных типах характеров, агрессии при расстройствах личности.
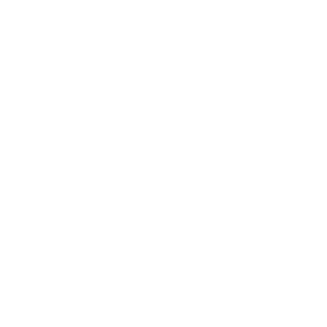
Отвечает Марина Загорная, экзистенциальный психолог
К сожалению, вы дали мало информации о себе, чтобы ответ на ваш вопрос мог быть более точными и раскрыть именно вашу индивидуальную ситуацию. Поэтому с моей стороны будут скорее предположения, которые описывают, почему вообще возникает подобный феномен и как с ним можно обойтись.
Я бы предложила вам поразмышлять над вопросом «Для чего вам нужно себя бичевать?» и «Что произойдет, если вы перестанете это делать?» Но имейте ввиду, что это не такой простой вопрос, как может показаться на первый взгляд. Поскольку ответ на него лежит в мало доступных для сознания плоскостях вашего внутреннего мира. Для подсказки разрешу себе фантазию о том, что, возможно, кто-то из вашего раннего детского окружения строил общение с вами в подобной модели, замечая и отражая вам не ваши достоинства, а пиля вас, бичуя и критикуя.
Вашей сознательной/взрослой части (то, что вы понимаете умом) такая модель отношений с собой мешает и не нравится. Но для инфантильной (бессознательной) части психики, видимо, важно оставаться верной именно этому способу. Так как для неё (детской/инфантильной части) это означает сохранение связи с тем значимым человеком, который строил с вами отношения через критику и отражение недостатков.
Выходом из подобной ситуации является путь эмоциональной сепарации (разделение, отсоединение) от внутренних родительских фигур. Пройти такой путь самостоятельно — довольно сложная и чаще всего не решаемая задача. Поэтому для достижения цели вам, скорее всего, потребуется помощь психотерапевта или психолога. Вместе с которым вы сможете выявить и понять, что именно заставляет вас оставаться в слепке с критикующим внутренним родителем и воспринимать его послания к вашему Я как свое собственное мнение о себе и своих поступках. Найти в своей психике ресурсы для отделения и формирования автономного мнения о своей личности, которое будет основано на понимании и уважении к себе.
Мы ценим и уважаем внутри себя то, с чем хорошо знакомы, что освоили, узнали и приняли причины, по которым мы сформировались именно таким образом. В этом смысле психотерапия может именно тем процессом, который позволит вам лучше познакомиться с собой, полюбить себя и принять, а во многом и трансформировать некоторые аспекты вашей психики.
Искренне желаю вам успехов в этом непростом и интересном путешествии!
К сожалению, вы дали мало информации о себе, чтобы ответ на ваш вопрос мог быть более точными и раскрыть именно вашу индивидуальную ситуацию. Поэтому с моей стороны будут скорее предположения, которые описывают, почему вообще возникает подобный феномен и как с ним можно обойтись.
Я бы предложила вам поразмышлять над вопросом «Для чего вам нужно себя бичевать?» и «Что произойдет, если вы перестанете это делать?» Но имейте ввиду, что это не такой простой вопрос, как может показаться на первый взгляд. Поскольку ответ на него лежит в мало доступных для сознания плоскостях вашего внутреннего мира. Для подсказки разрешу себе фантазию о том, что, возможно, кто-то из вашего раннего детского окружения строил общение с вами в подобной модели, замечая и отражая вам не ваши достоинства, а пиля вас, бичуя и критикуя.
Вашей сознательной/взрослой части (то, что вы понимаете умом) такая модель отношений с собой мешает и не нравится. Но для инфантильной (бессознательной) части психики, видимо, важно оставаться верной именно этому способу. Так как для неё (детской/инфантильной части) это означает сохранение связи с тем значимым человеком, который строил с вами отношения через критику и отражение недостатков.
Выходом из подобной ситуации является путь эмоциональной сепарации (разделение, отсоединение) от внутренних родительских фигур. Пройти такой путь самостоятельно — довольно сложная и чаще всего не решаемая задача. Поэтому для достижения цели вам, скорее всего, потребуется помощь психотерапевта или психолога. Вместе с которым вы сможете выявить и понять, что именно заставляет вас оставаться в слепке с критикующим внутренним родителем и воспринимать его послания к вашему Я как свое собственное мнение о себе и своих поступках. Найти в своей психике ресурсы для отделения и формирования автономного мнения о своей личности, которое будет основано на понимании и уважении к себе.
Мы ценим и уважаем внутри себя то, с чем хорошо знакомы, что освоили, узнали и приняли причины, по которым мы сформировались именно таким образом. В этом смысле психотерапия может именно тем процессом, который позволит вам лучше познакомиться с собой, полюбить себя и принять, а во многом и трансформировать некоторые аспекты вашей психики.
Искренне желаю вам успехов в этом непростом и интересном путешествии!
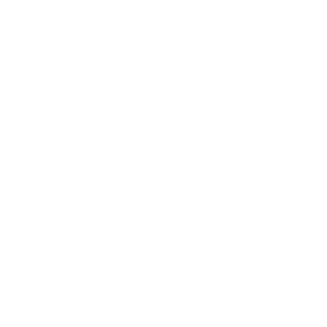
Отвечает Юлия Чудная, психолог
Мысль о том, что наши желания — не такие уж и наши, исконно собственные, может показаться странной. Однако с самого детства родители и воспитатели, равно как и всевозможные связанные с ними люди, упорно и настойчиво учат ребенка, что он должен хотеть, как правильно выражать (проговаривать) свои желания, и какие желания можно иметь, а какие — нет. В равной степени это касается и того, какие желания нужно иметь: кем быть, с кем жить, «на кого пойти учиться». И как скоро они должны быть осуществлены с точки зрения окружающих.
Все это вызывает сопротивление, маскирующееся под пресловутой прокрастинацией (ленью), сопротивление отчаянное, но не всегда осознаваемое. Оно запускает механизмы психологических защит, останавливает вас в действиях и приводит к застреванию, вызывая тяжелые чувства, в том числе вину и разочарование в собственных силах. «Не достиг, не смог, не сделал, попытки безуспешны». Круг замыкается.
Можно попытаться самостоятельно разобраться с этим, исследуя причины: что останавливает на пути от импульса к действию, чем заменяются желания, что останавливает приближение к цели, какие чувства возникают при этом. Главное условие при этом — попытаться разрешить себе «обломовщину», возможно, в буквальном смысле опираясь на чтение известного романа.
Но истолковать такие симптомы самостоятельно очень трудно. Причины, за которыми прячется истина, будут отбрасываться, как неприятные, резонерские рассуждения станут заменой реальной рефлексии и действий. Сценарий будет повторяться раз за разом, устойчиво формируя те самые тяжелые чувства. Поэтому ответ на вопрос: «Что делать?» звучит однозначно — искать специалиста, с которым можно увидеть, чем именно вы удовлетворяетесь, отбрасывая желания, и сконструировать фантазию на месте старого сценария, присвоив ее уже как собственную.
Мысль о том, что наши желания — не такие уж и наши, исконно собственные, может показаться странной. Однако с самого детства родители и воспитатели, равно как и всевозможные связанные с ними люди, упорно и настойчиво учат ребенка, что он должен хотеть, как правильно выражать (проговаривать) свои желания, и какие желания можно иметь, а какие — нет. В равной степени это касается и того, какие желания нужно иметь: кем быть, с кем жить, «на кого пойти учиться». И как скоро они должны быть осуществлены с точки зрения окружающих.
Все это вызывает сопротивление, маскирующееся под пресловутой прокрастинацией (ленью), сопротивление отчаянное, но не всегда осознаваемое. Оно запускает механизмы психологических защит, останавливает вас в действиях и приводит к застреванию, вызывая тяжелые чувства, в том числе вину и разочарование в собственных силах. «Не достиг, не смог, не сделал, попытки безуспешны». Круг замыкается.
Можно попытаться самостоятельно разобраться с этим, исследуя причины: что останавливает на пути от импульса к действию, чем заменяются желания, что останавливает приближение к цели, какие чувства возникают при этом. Главное условие при этом — попытаться разрешить себе «обломовщину», возможно, в буквальном смысле опираясь на чтение известного романа.
Но истолковать такие симптомы самостоятельно очень трудно. Причины, за которыми прячется истина, будут отбрасываться, как неприятные, резонерские рассуждения станут заменой реальной рефлексии и действий. Сценарий будет повторяться раз за разом, устойчиво формируя те самые тяжелые чувства. Поэтому ответ на вопрос: «Что делать?» звучит однозначно — искать специалиста, с которым можно увидеть, чем именно вы удовлетворяетесь, отбрасывая желания, и сконструировать фантазию на месте старого сценария, присвоив ее уже как собственную.
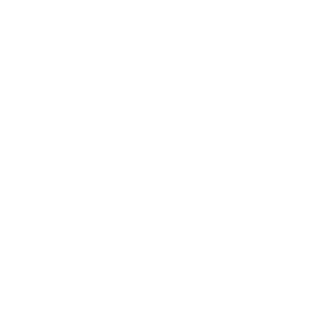
Отвечает Елена Бочкарева, медицинский психолог, гештальт-терапевт, экзистенциальный терапевт.
Думаю, что не только можно, но вы сами уже это делали не один раз. Вы пишете про завершающий обучение экзамен в ВУЗе, что означает, что вы уже успешно сдали экзамены в школе, да и экзаменов в самом ВУЗе за несколько лет учебы было немало! А это означает, что вы уже несколько раз справились с этими испытаниями. Теперь вопрос к вам — как вы это сделали? Что вам помогало, на что вы опирались, чью поддержку использовали? Все это поможет и в этот раз!
И с большим пониманием к вашим непростым переживаниям: самое трудное в этом — это пережить предстартовое волнение. В этом процессе есть несколько простых правил.
Первое — признать это волнение, разрешить себе волноваться и беспокоиться. Эти переживания очень естественны и знакомы подавляющему большинству людей. Публичные выступления — это навык, который тренируется опытом, а не даётся нам от природы в готовом виде, и навык этот хорошо приобретать в подходящих условиях и рядом с доброжелательными «инструкторами». К сожалению, в образовательных учреждениях этому учат не слишком успешно, поэтому приходиться «добирать» это на тренингах, в психотерапии, или даже на курсах актерского мастерства.
Второе — не оставаться в этих переживаниях в одиночестве. Поделитесь своим беспокойством с близкими, с друзьями, своими реакциями они поддержат вас и, возможно, развеселят вас историями про свои волнения перед чем-то важным.
Третье — воспользуйтесь достижениями поливагальной теории, которая утверждает, что дыхание напрямую связано с системой тревоги нашего организма, а поэтому используйте дыхательные техники для нормализации состояния: сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов, старайтесь дышать медленно. Возможно, это получится не сразу, но, как правило, концентрация внимания на ритме дыхания заметно успокаивает.
Четвёртое — нейробиологи утверждают, что для продуктивной умственной деятельности нашему мозгу помогают физическая активность и кислород — поэтому постарайтесь перед экзаменом как можно больше гулять, прогулки вместо зубрёжки.
Пятое — не игнорируйте медикаментозную терапию, если уровень тревоги субъективно очень высокий, используйте доступные для вас препараты, которые смогут расслабить и облегчить состояние.
И последнее — постарайтесь фантазировать о том, как пройдёт ваша защита, в позитивных красках и постарайтесь говорить «стоп» всем пугающим вас ожиданиям. Самое главное, чтобы вы были «за себя», чтобы в этот субъективно непростой период вы говорили себе ясно и громко: «Я у себя есть! Я в себя верю!».
Думаю, что не только можно, но вы сами уже это делали не один раз. Вы пишете про завершающий обучение экзамен в ВУЗе, что означает, что вы уже успешно сдали экзамены в школе, да и экзаменов в самом ВУЗе за несколько лет учебы было немало! А это означает, что вы уже несколько раз справились с этими испытаниями. Теперь вопрос к вам — как вы это сделали? Что вам помогало, на что вы опирались, чью поддержку использовали? Все это поможет и в этот раз!
И с большим пониманием к вашим непростым переживаниям: самое трудное в этом — это пережить предстартовое волнение. В этом процессе есть несколько простых правил.
Первое — признать это волнение, разрешить себе волноваться и беспокоиться. Эти переживания очень естественны и знакомы подавляющему большинству людей. Публичные выступления — это навык, который тренируется опытом, а не даётся нам от природы в готовом виде, и навык этот хорошо приобретать в подходящих условиях и рядом с доброжелательными «инструкторами». К сожалению, в образовательных учреждениях этому учат не слишком успешно, поэтому приходиться «добирать» это на тренингах, в психотерапии, или даже на курсах актерского мастерства.
Второе — не оставаться в этих переживаниях в одиночестве. Поделитесь своим беспокойством с близкими, с друзьями, своими реакциями они поддержат вас и, возможно, развеселят вас историями про свои волнения перед чем-то важным.
Третье — воспользуйтесь достижениями поливагальной теории, которая утверждает, что дыхание напрямую связано с системой тревоги нашего организма, а поэтому используйте дыхательные техники для нормализации состояния: сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов, старайтесь дышать медленно. Возможно, это получится не сразу, но, как правило, концентрация внимания на ритме дыхания заметно успокаивает.
Четвёртое — нейробиологи утверждают, что для продуктивной умственной деятельности нашему мозгу помогают физическая активность и кислород — поэтому постарайтесь перед экзаменом как можно больше гулять, прогулки вместо зубрёжки.
Пятое — не игнорируйте медикаментозную терапию, если уровень тревоги субъективно очень высокий, используйте доступные для вас препараты, которые смогут расслабить и облегчить состояние.
И последнее — постарайтесь фантазировать о том, как пройдёт ваша защита, в позитивных красках и постарайтесь говорить «стоп» всем пугающим вас ожиданиям. Самое главное, чтобы вы были «за себя», чтобы в этот субъективно непростой период вы говорили себе ясно и громко: «Я у себя есть! Я в себя верю!».
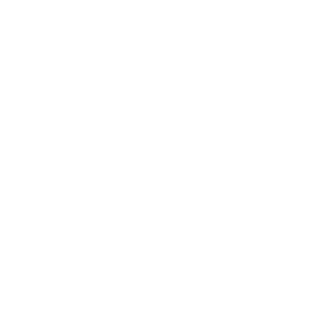
Отвечает Марина Загорная, экзистенциальный психотерапевт
Конечно, влияет. Потому что депрессия — это такое состояние, когда на чувства как будто нет сил. Это некая эмоциональная смерть. А ребёнку не важно — умерла мать физически или она умерла эмоционально. Воспринимает он это одинаково — как потерю. В первые месяцы жизни и за первый год ребёнок для себя должен решить очень много психических задач. И все эти задачи он может решить только с помощью матери.
Ещё очень важно в какие месяцы, в какой период после родов у матери депрессия. Если это в первые 3 месяца жизни, то это будет не очень критично. Поскольку в первые 3 месяца ребёнок нуждается именно в том, чтобы к нему приходили на помощь как можно скорее и решали вопросы, связанные с его уходом — кормили, убирали, перепелёнывали.
А вот уже после 3-х месяцев ребенок начинает сильно нуждаться именно в материнских эмоциях. А если мать в депрессии, то этих эмоций ребёнок не получает.
Есть такой эксперимент, называется «мать с каменным лицом». Там исследовалось много пар матерей и младенцев, 6ти- или 8ми-месячных. Эксперимент заключался в следующем: ребёнок просыпается, а мать подходит к кроватке с каменным лицом, ничего не выражающем. В достаточно большой экспериментальной выборке реакции младенцев разделились на 2 типа: первый — ребёнок засыпал, как бы не видя приглашения матери к жизни и какой-то активности; а второй — дети начинали устраивать истерику, как будто пытаясь мать оживить.
И вот эти реакции хорошо описывают то, как ребёнок реагирует на отсутствие эмоций матери. То есть он либо «засыпает», то есть останавливается в своём психическом развитии, либо он начинает тратить всю свою энергию, которая предназначена ему для роста и развития, на то, чтобы свою мать «оживить».
Важным моментом является то, что лицо матери является таким зеркалом для ребёнка. Если у матери счастливое и довольное лицо, то ребёнок воспринимает себя как хорошего — «я достаточно хорош, чтобы радовать свою мать, чтобы делать её счастливой и она счастлива потому, что я такой хороший». А если у матери лицо несчастное или безэмоциональное, то ребёнок это переживает, как «я плохой, я недостаточно хорош, чтобы она переживала счастье и удовольствие от меня». Это является глубинным фундаментом, который закладывает в нас ощущение собственной хорошести или нехорошести.
Также материнская депрессия в раннем возрасте ребёнка является причиной большинства психических расстройств и симптомов во взрослом возрасте, невозможности любить и строить удовлетворительные отношения… И, как я уже писала ранее, приводит к ощущению себя плохим.
Для того, чтобы осуществлять достаточно адекватный уход за ребёнком и чтобы его психологическое развитие двигалось — мать должна давать эмоциональный отклик. Именно в первый год жизни закладывается серьёзный фундамент, как дальше будет строиться психика ребёнка. Ребенок ещё не разговаривает и мать может его понять только через те чувства, которые она сама рядом с ним переживает. А если она в депрессии, то она этих чувств не будет ощущать, либо не сможет их понимать.
Конечно, влияет. Потому что депрессия — это такое состояние, когда на чувства как будто нет сил. Это некая эмоциональная смерть. А ребёнку не важно — умерла мать физически или она умерла эмоционально. Воспринимает он это одинаково — как потерю. В первые месяцы жизни и за первый год ребёнок для себя должен решить очень много психических задач. И все эти задачи он может решить только с помощью матери.
Ещё очень важно в какие месяцы, в какой период после родов у матери депрессия. Если это в первые 3 месяца жизни, то это будет не очень критично. Поскольку в первые 3 месяца ребёнок нуждается именно в том, чтобы к нему приходили на помощь как можно скорее и решали вопросы, связанные с его уходом — кормили, убирали, перепелёнывали.
А вот уже после 3-х месяцев ребенок начинает сильно нуждаться именно в материнских эмоциях. А если мать в депрессии, то этих эмоций ребёнок не получает.
Есть такой эксперимент, называется «мать с каменным лицом». Там исследовалось много пар матерей и младенцев, 6ти- или 8ми-месячных. Эксперимент заключался в следующем: ребёнок просыпается, а мать подходит к кроватке с каменным лицом, ничего не выражающем. В достаточно большой экспериментальной выборке реакции младенцев разделились на 2 типа: первый — ребёнок засыпал, как бы не видя приглашения матери к жизни и какой-то активности; а второй — дети начинали устраивать истерику, как будто пытаясь мать оживить.
И вот эти реакции хорошо описывают то, как ребёнок реагирует на отсутствие эмоций матери. То есть он либо «засыпает», то есть останавливается в своём психическом развитии, либо он начинает тратить всю свою энергию, которая предназначена ему для роста и развития, на то, чтобы свою мать «оживить».
Важным моментом является то, что лицо матери является таким зеркалом для ребёнка. Если у матери счастливое и довольное лицо, то ребёнок воспринимает себя как хорошего — «я достаточно хорош, чтобы радовать свою мать, чтобы делать её счастливой и она счастлива потому, что я такой хороший». А если у матери лицо несчастное или безэмоциональное, то ребёнок это переживает, как «я плохой, я недостаточно хорош, чтобы она переживала счастье и удовольствие от меня». Это является глубинным фундаментом, который закладывает в нас ощущение собственной хорошести или нехорошести.
Также материнская депрессия в раннем возрасте ребёнка является причиной большинства психических расстройств и симптомов во взрослом возрасте, невозможности любить и строить удовлетворительные отношения… И, как я уже писала ранее, приводит к ощущению себя плохим.
Для того, чтобы осуществлять достаточно адекватный уход за ребёнком и чтобы его психологическое развитие двигалось — мать должна давать эмоциональный отклик. Именно в первый год жизни закладывается серьёзный фундамент, как дальше будет строиться психика ребёнка. Ребенок ещё не разговаривает и мать может его понять только через те чувства, которые она сама рядом с ним переживает. А если она в депрессии, то она этих чувств не будет ощущать, либо не сможет их понимать.
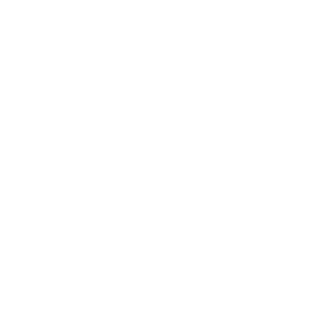
Отвечает Кристина Руснак, психолог, экзистенциальный психотерапевт
Люди, страдающие зависимостями, обычно считаются «выздоравливающими» в процессе всей жизни. Срыв может никогда не наступить, если есть достаточно внутренних и внешних ресурсов для переработки чувств. Дети зависимых родителей обычно травмированы «отношениями», пострадали в зоне зависимости от деструктивных привычек взрослых. В случае успешной психотерапевтической работы взрослый уже ребёнок из такой семьи может выстроить новые способы отношений с самим собой и другим. Проработка такой травмы подразумевает установление близких отношений с психотерапевтом, проживание зависимости от хорошего объекта, сепарацию от «плохого» внутреннего объекта и установление удовлетворительных отношений с самим собой и в дальнейшем с окружающими. Процесс длительный, довольно трудный, но вполне перспективный. Серьезно травмированные пьющими родителями люди без психологической помощи очень часто остаются в неудовлетворительных отношениях. На мой взгляд, без психотерапевта или психотерапевтической группы тут не обойтись (или хотя бы группы ВДА).
Подробнее о ВДА рассказывается в вебинаре Кристины
запись доступна за 300р.
Люди, страдающие зависимостями, обычно считаются «выздоравливающими» в процессе всей жизни. Срыв может никогда не наступить, если есть достаточно внутренних и внешних ресурсов для переработки чувств. Дети зависимых родителей обычно травмированы «отношениями», пострадали в зоне зависимости от деструктивных привычек взрослых. В случае успешной психотерапевтической работы взрослый уже ребёнок из такой семьи может выстроить новые способы отношений с самим собой и другим. Проработка такой травмы подразумевает установление близких отношений с психотерапевтом, проживание зависимости от хорошего объекта, сепарацию от «плохого» внутреннего объекта и установление удовлетворительных отношений с самим собой и в дальнейшем с окружающими. Процесс длительный, довольно трудный, но вполне перспективный. Серьезно травмированные пьющими родителями люди без психологической помощи очень часто остаются в неудовлетворительных отношениях. На мой взгляд, без психотерапевта или психотерапевтической группы тут не обойтись (или хотя бы группы ВДА).
Подробнее о ВДА рассказывается в вебинаре Кристины
запись доступна за 300р.
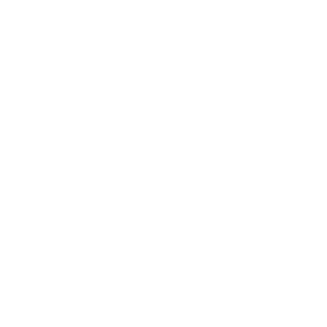
Отвечает Екатерина Бойдек, экзистенциальный психолог, супружеский терапевт
Наша психика мудра, и в ней нет ничего лишнего. Все в ней имеет какой-то смысл. Поэтому не стоит избавляться от чего-то, «просто переставать (just stop it — как в известном ролике)», а лучше понять: а зачем я ищу лучшее / идеальное? Вот я получу это — и что тогда? Как изменится мое ощущение себя, как изменится моя жизнь? А когда я не получаю лучшего, что со мной, что я переживаю? Отвечая на такие вопросы, пытаясь узнать больше о том, что нами движет (а не исправить это), мы глубже понимаем наши важные потребности, которые и пытается «обслужить», например, вот такое постоянное стремление к лучшему.
Не смогу ответить точно за автора вопроса, но предположу, что за потребность может скрываться за таким вечным поиском идеала.
Поиск лучшего вполне естественен для любого человека, но также нам важно уметь выдерживать «не лучшее», но «достаточно хорошее». Сложно это выдержать и не начать поиск «идеального» тогда, когда человек не верит, что он уже достаточно хорош. А такое часто происходит потому, что в детстве он не получил достаточно подтверждения от близких людей, что он ценен, любим такой, какой он есть, и что все, что он переживает — нормально и естественно для любого человека. Тогда маленький человек глубоко внутри чувствует себя одиноким и начинает думать, что что-то с ним не так, что в нем есть что-то такое, что не позволяет его любить, и что надо постараться и «улучшиться», чтобы заслужить любовь. И начинаются бесконечные поиски лучшего, чтобы почувствовать себя, наконец, ценным, хорошим, любимым.
Что с этим делать? Учиться чувствовать, что происходит внутри, учиться выдерживать разные естественные чувства разочарования, грусти, зависти, одиночества. Не нападать на себя за то, что переживаете, за очень человеческие переживания и проявления уязвимости, ранимости, «недостаточности». Видеть, что дело не в своей неполноценности, ужасности, ущербности, которую надо исправлять и маскировать «лучшим», а дело в том, что многие чувства и состояния не были признаны и разделены взрослыми раньше, и отсюда родилось ощущение «неполноценности» и «неидеальности». Начать сочувствовать себе, что чего-то нет и, может быть, никогда не будет. Что чего-то не получено и место дефицита будет болезненнее и чувствительнее, чем у тех, кто получил достаточно любви и признания. Это все сделать, конечно, легче, когда в настоящем есть принимающие отношения, например, с терапевтом.
Важно также не ругать себя за то, что хочется всегда лучшего. Это неплохо. Это то, что стимулирует развиваться, учиться, искать более подходящее для себя. Но важно, чтобы был выбор. И если «улучшать» что-то очень затратно и утомительно, хорошо бы иметь возможность и оставить все как есть, принять то, что есть сейчас. И этот выбор возможен, если получается переживать разные чувства и выдерживать разные состояния.
Наша психика мудра, и в ней нет ничего лишнего. Все в ней имеет какой-то смысл. Поэтому не стоит избавляться от чего-то, «просто переставать (just stop it — как в известном ролике)», а лучше понять: а зачем я ищу лучшее / идеальное? Вот я получу это — и что тогда? Как изменится мое ощущение себя, как изменится моя жизнь? А когда я не получаю лучшего, что со мной, что я переживаю? Отвечая на такие вопросы, пытаясь узнать больше о том, что нами движет (а не исправить это), мы глубже понимаем наши важные потребности, которые и пытается «обслужить», например, вот такое постоянное стремление к лучшему.
Не смогу ответить точно за автора вопроса, но предположу, что за потребность может скрываться за таким вечным поиском идеала.
Поиск лучшего вполне естественен для любого человека, но также нам важно уметь выдерживать «не лучшее», но «достаточно хорошее». Сложно это выдержать и не начать поиск «идеального» тогда, когда человек не верит, что он уже достаточно хорош. А такое часто происходит потому, что в детстве он не получил достаточно подтверждения от близких людей, что он ценен, любим такой, какой он есть, и что все, что он переживает — нормально и естественно для любого человека. Тогда маленький человек глубоко внутри чувствует себя одиноким и начинает думать, что что-то с ним не так, что в нем есть что-то такое, что не позволяет его любить, и что надо постараться и «улучшиться», чтобы заслужить любовь. И начинаются бесконечные поиски лучшего, чтобы почувствовать себя, наконец, ценным, хорошим, любимым.
Что с этим делать? Учиться чувствовать, что происходит внутри, учиться выдерживать разные естественные чувства разочарования, грусти, зависти, одиночества. Не нападать на себя за то, что переживаете, за очень человеческие переживания и проявления уязвимости, ранимости, «недостаточности». Видеть, что дело не в своей неполноценности, ужасности, ущербности, которую надо исправлять и маскировать «лучшим», а дело в том, что многие чувства и состояния не были признаны и разделены взрослыми раньше, и отсюда родилось ощущение «неполноценности» и «неидеальности». Начать сочувствовать себе, что чего-то нет и, может быть, никогда не будет. Что чего-то не получено и место дефицита будет болезненнее и чувствительнее, чем у тех, кто получил достаточно любви и признания. Это все сделать, конечно, легче, когда в настоящем есть принимающие отношения, например, с терапевтом.
Важно также не ругать себя за то, что хочется всегда лучшего. Это неплохо. Это то, что стимулирует развиваться, учиться, искать более подходящее для себя. Но важно, чтобы был выбор. И если «улучшать» что-то очень затратно и утомительно, хорошо бы иметь возможность и оставить все как есть, принять то, что есть сейчас. И этот выбор возможен, если получается переживать разные чувства и выдерживать разные состояния.
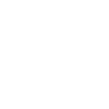
Отвечает Алсу Пашина, психолог
Умственная работа — это достаточно энергозатратный процесс для нашей психики, поэтому организму нужны ресурсы её выполнять.
В связи с происходящем в мире бОльшая часть наших ресурсов вынуждена уходить на другое — на то, чтобы «переваривать» то, что неожиданно с нами со всеми случилось.
«Переваривать» — это значит пытаться понимать, осмысливать, проживать сложные чувства. Эта работа необходима для того, чтобы отпустить старую реальность, принять новую и сделать наиболее верный выбор для себя.
Чем неожиданнее и катастрофичнее ситуация, тем сложнее психике сделать эту работу, она буквально все силы отдаёт на выполнение этой важной задачи. Поэтому мы устаём.
Вы также пишете про парализованное мышление. Такой процесс является естественной реакцией на сильный стресс (бей, беги, замри). Кто-то агрессивно «бьёт» злобными комментариями в соц. сетях, кто-то в панике срочно что-то делает, а у кого-то замирает мышление.
Да, всё это очень ограничивает нашу жизнь и не позволяет как и раньше решать сложные задачи. А ведь нам всё равно нужно писать диплом, сдать его вовремя, нужно продолжать делать свою работу, думать, анализировать и т.д.
И тут очень важно понимать, что не смотря на парализованность мышления и усталость с вами всё в порядке. Что это естественный процесс, нормальная реакция на не нормальную ситуацию.
Когда мы осознаём нормальность того, что с нами происходит — одно это уже может помочь, так как такое своё состояние перестает тревожить и пугать. Более того, такое осознание позволяет испытывать к себе сочувствие, а сочувствие является основой заботы о себе.
Возможно вы позволите себе больше отдыхать, благодарить себя за малейшие усилия и награждать разными приятностями. А может осмелитесь попросить вашего преподавателя дать вам больше времени. Или найдете людей, кто сможет вас выслушивать и разделять ваши чувства, ведь рядом с другими людьми легче переживать страшные события. Любые способы заботы сейчас очень актуальны.
Глобально мы все бессильны, мы не можем остановить то, что происходит, но в чём-то мы можем проявлять свою силу — мы можем искать помощь, нужных людей, можем больше помогать себе справляться.
И даже то, что вы задаёте вопросы, а я на них отвечаю — является проявлением вашей силы и заботы о себе. Вы не столь беспомощны, вы способны просить помощь и получать её.
Но если вы замечаете, что из месяца в месяц вам не становится лучше, тревога усиливается, качество жизни ухудшается, то я бы вам рекомендовала обратиться к психологу и получить квалифицированную индивидуальную помощь от специалиста.
Берегите себя!
Умственная работа — это достаточно энергозатратный процесс для нашей психики, поэтому организму нужны ресурсы её выполнять.
В связи с происходящем в мире бОльшая часть наших ресурсов вынуждена уходить на другое — на то, чтобы «переваривать» то, что неожиданно с нами со всеми случилось.
«Переваривать» — это значит пытаться понимать, осмысливать, проживать сложные чувства. Эта работа необходима для того, чтобы отпустить старую реальность, принять новую и сделать наиболее верный выбор для себя.
Чем неожиданнее и катастрофичнее ситуация, тем сложнее психике сделать эту работу, она буквально все силы отдаёт на выполнение этой важной задачи. Поэтому мы устаём.
Вы также пишете про парализованное мышление. Такой процесс является естественной реакцией на сильный стресс (бей, беги, замри). Кто-то агрессивно «бьёт» злобными комментариями в соц. сетях, кто-то в панике срочно что-то делает, а у кого-то замирает мышление.
Да, всё это очень ограничивает нашу жизнь и не позволяет как и раньше решать сложные задачи. А ведь нам всё равно нужно писать диплом, сдать его вовремя, нужно продолжать делать свою работу, думать, анализировать и т.д.
И тут очень важно понимать, что не смотря на парализованность мышления и усталость с вами всё в порядке. Что это естественный процесс, нормальная реакция на не нормальную ситуацию.
Когда мы осознаём нормальность того, что с нами происходит — одно это уже может помочь, так как такое своё состояние перестает тревожить и пугать. Более того, такое осознание позволяет испытывать к себе сочувствие, а сочувствие является основой заботы о себе.
Возможно вы позволите себе больше отдыхать, благодарить себя за малейшие усилия и награждать разными приятностями. А может осмелитесь попросить вашего преподавателя дать вам больше времени. Или найдете людей, кто сможет вас выслушивать и разделять ваши чувства, ведь рядом с другими людьми легче переживать страшные события. Любые способы заботы сейчас очень актуальны.
Глобально мы все бессильны, мы не можем остановить то, что происходит, но в чём-то мы можем проявлять свою силу — мы можем искать помощь, нужных людей, можем больше помогать себе справляться.
И даже то, что вы задаёте вопросы, а я на них отвечаю — является проявлением вашей силы и заботы о себе. Вы не столь беспомощны, вы способны просить помощь и получать её.
Но если вы замечаете, что из месяца в месяц вам не становится лучше, тревога усиливается, качество жизни ухудшается, то я бы вам рекомендовала обратиться к психологу и получить квалифицированную индивидуальную помощь от специалиста.
Берегите себя!
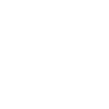
Отвечает Ирина Млодик, детский психолог, экзистенциальный психотерапевт
Если у вашего ребёнка нет отца.
Вам придется совмещать две родительские роли: быть ему и отцом, и матерью. Это огромная нагрузка, и детям не всегда понятно, с кем именно каждую минуту они встречаются в вашем лице. Роль вы исполнить можете, но отцом им все равно не станете.
Неплохо бы дать ребёнку хоть какую-то информацию об этом человеке. Лучше реалистичную (лётчики, герои, полярники — дело хорошее, если это не слишком далеко от правды). Вы можете сказать, к примеру: «Твой отец хотел, чтобы ты родился (если тот не настаивал на аборте), но не смог тебя воспитывать». Так мы говорим ребенку: ты был желанным, но папа не справился, стал биологическим, но не реальным отцом. Если отец не хотел рождения ребенка, скажите: «мы любили друг друга (если ребенок родился не вследствии насилия), но твой папа был не готов стать папой». Тогда это папина проблема, не проблема ребёнка.
Если вы очерняете отца в глазах вашего ребёнка, то создаёте в нем дыру. Он становится плохим ребенком плохого человека, поскольку часть родителя всегда в нас.
Иногда полезно вместе с детьми поговорить об их фантазиях об отце (при этом не нужно их жестко разбивать о реальность: «а на самом деле твой папочка — дерьмо полное!»). Фантазия ребёнка (не ваша!) может хоть как-то заполнить дыру. Отсутствующий объект всегда притягательнее, чем уже существующий. Поэтому ребенок может не замечать и не ценить все то отцовское, что вы для него сделали.
Будет неплохо, если какие-то мужчины в жизни ребенка все же появятся: родственники, тренер, учитель или ваш новый партнёр, так вы снова сможете вернуться к чистой материнской роли, а вместо дыры в психике ребёнка появится отцовская фигура.
Если у вашего ребёнка нет отца.
Вам придется совмещать две родительские роли: быть ему и отцом, и матерью. Это огромная нагрузка, и детям не всегда понятно, с кем именно каждую минуту они встречаются в вашем лице. Роль вы исполнить можете, но отцом им все равно не станете.
Неплохо бы дать ребёнку хоть какую-то информацию об этом человеке. Лучше реалистичную (лётчики, герои, полярники — дело хорошее, если это не слишком далеко от правды). Вы можете сказать, к примеру: «Твой отец хотел, чтобы ты родился (если тот не настаивал на аборте), но не смог тебя воспитывать». Так мы говорим ребенку: ты был желанным, но папа не справился, стал биологическим, но не реальным отцом. Если отец не хотел рождения ребенка, скажите: «мы любили друг друга (если ребенок родился не вследствии насилия), но твой папа был не готов стать папой». Тогда это папина проблема, не проблема ребёнка.
Если вы очерняете отца в глазах вашего ребёнка, то создаёте в нем дыру. Он становится плохим ребенком плохого человека, поскольку часть родителя всегда в нас.
Иногда полезно вместе с детьми поговорить об их фантазиях об отце (при этом не нужно их жестко разбивать о реальность: «а на самом деле твой папочка — дерьмо полное!»). Фантазия ребёнка (не ваша!) может хоть как-то заполнить дыру. Отсутствующий объект всегда притягательнее, чем уже существующий. Поэтому ребенок может не замечать и не ценить все то отцовское, что вы для него сделали.
Будет неплохо, если какие-то мужчины в жизни ребенка все же появятся: родственники, тренер, учитель или ваш новый партнёр, так вы снова сможете вернуться к чистой материнской роли, а вместо дыры в психике ребёнка появится отцовская фигура.
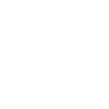
Отвечает Алла Матус, детский и взрослый психотерапевт, практикующий психолог, обучающий психотерапевт по методу
символдрамы
Развитие близнецов и двойняшек мало чем отличаются от деток, рожденных в одиночестве. Однако есть некоторые особенности, на них и обратим внимание.
Уникальность близнецов в том, что даже в утробе у них нет опыта одиночества и это безусловно оказывает влияние на развитие малышей. Так они изначально определяют и чувствуют себя в мире сначала как пару и как часть пары, а не отдельным, неповторимым человеком (часто детки говорят о себе не Я, а Мы: «Мы хотим, мы пришли»). Это поддерживают и родители, и, в общем-то, все окружающие люди, объединяющие близнецов в одно целое. Среда способствует к еще большему слиянию близнецов. Одинаковая одежда, игрушки, мультфильмы, книги, кружки и секции затрудняют развитие индивидуальности, а иногда делают это не возможным.
У родителей двойняшек, тройняшек, в отличии от родителей одного малыша или разновозрастных деток, нет возможности отдавать все свое внимание и заботу каждому малышу, так как в семье появляется сразу несколько младенцев. Соответственно, ни у одного из детей не появляется опыта быть единственным объектом любви и внимания родителей. Родительство — прекрасная, интересная, но очень непростая задача, тем более для родителей близнецов — сложно учитывать желания и потребности одного малыша, а когда младенцев несколько, родители, чтобы сэкономить время и силы, часто предлагают и даже настаивают на том, чтобы малыши делали все вместе, одновременно, и это способствует ещё большему «склеиванию» малышей. Покупают одинаковую одежду и игрушки, готовят одинаковую еду, не учитывая при этом интересов и вкусов каждого уникального человека.
К сожалению, это не даёт шанса каждому малышу понимать, что же нравится или не нравится именно ему, слышать свои личные желания. Ещё одной сложностью является то, что у деток есть опция как бы пользоваться друг другом (например, для одного из близнецов может не составлять сложности адаптация к детскому саду, т. к. у него, например, нет проблем с общением с другими детьми, а для другого это сложно. И, вместо того чтобы учиться знакомиться, дружить, более робкий малыш пользуется умениями брата/сёстры. Один малыш быстро справляется с задачами, другой же в виду своего темперамента делает все медленно, чем вызывает недовольство родителей и тогда, в виду разных причин, более шустрый малыш берет больше ответственности на себя и выполняет роль родителя для брата или сестры (начинает помогать, контролировать, поучать и т.п.)
Или в школьном возрасте двойняшки зачастую делят уроки и каждый делает то, что ему даётся легче, сложное же списывает у близнеца. Это прекрасная возможность и значительно облегчает жизнь, однако есть и оборотная сторона этой выгоды. Так ребёнок, испытывающий сложности в освоении предмета, не учится преодолевать их, а справляется с ними за счет брата или сестры, но стоит ему остаться одному — задача становится невыполнимой. Важно замечать индивидуальность каждого ребёнка и помогать развивать психологическую и физиологическую автономность каждому ребёнку отдельно. В этом хорошо помогает практика, когда родители проводят время с каждым из близнецов отдельно, записывают детей в разные секции согласно индивидуальным особенностям и интересам каждого ребёнка. Дают детям разные поручения и ставят перед ними разные задачи.
В подростковом возрасте близнецам/двойняшкам предстоит сепарироваться не только от родителей, а ещё и от своего близнеца. Как правило, один из них (тот, чей социальный и коммуникативный навык развит меньше) не готов к отделению и может испытывать сложности, адаптируясь к миру самостоятельно, не пользуясь братом или сестрой, общаясь с его друзьями, интересуясь его увлечениями, избегая таким образом встречи с собственными проблемными зонами.
И если брат/сестра отделяется, желая большей автономности, страдает, ревнует и т. п. Это вызывает проблемы уже внутри близнецовой пары и отношения одного из пары могут становиться контрзависимыми.
Так как каждому из близнецов необходимо осознать себя отдельной личностью, важно и необходимо с раннего детства подчеркивать индивидуальные способности и особенности каждого из близнецов, поддерживая и учитывая желания и потребности каждого ребёнка. Обращать внимание на желания, потребности, особенности каждого, при этом избегая сравнения, препятствующего развитию гармоничной личности.
символдрамы
Развитие близнецов и двойняшек мало чем отличаются от деток, рожденных в одиночестве. Однако есть некоторые особенности, на них и обратим внимание.
Уникальность близнецов в том, что даже в утробе у них нет опыта одиночества и это безусловно оказывает влияние на развитие малышей. Так они изначально определяют и чувствуют себя в мире сначала как пару и как часть пары, а не отдельным, неповторимым человеком (часто детки говорят о себе не Я, а Мы: «Мы хотим, мы пришли»). Это поддерживают и родители, и, в общем-то, все окружающие люди, объединяющие близнецов в одно целое. Среда способствует к еще большему слиянию близнецов. Одинаковая одежда, игрушки, мультфильмы, книги, кружки и секции затрудняют развитие индивидуальности, а иногда делают это не возможным.
У родителей двойняшек, тройняшек, в отличии от родителей одного малыша или разновозрастных деток, нет возможности отдавать все свое внимание и заботу каждому малышу, так как в семье появляется сразу несколько младенцев. Соответственно, ни у одного из детей не появляется опыта быть единственным объектом любви и внимания родителей. Родительство — прекрасная, интересная, но очень непростая задача, тем более для родителей близнецов — сложно учитывать желания и потребности одного малыша, а когда младенцев несколько, родители, чтобы сэкономить время и силы, часто предлагают и даже настаивают на том, чтобы малыши делали все вместе, одновременно, и это способствует ещё большему «склеиванию» малышей. Покупают одинаковую одежду и игрушки, готовят одинаковую еду, не учитывая при этом интересов и вкусов каждого уникального человека.
К сожалению, это не даёт шанса каждому малышу понимать, что же нравится или не нравится именно ему, слышать свои личные желания. Ещё одной сложностью является то, что у деток есть опция как бы пользоваться друг другом (например, для одного из близнецов может не составлять сложности адаптация к детскому саду, т. к. у него, например, нет проблем с общением с другими детьми, а для другого это сложно. И, вместо того чтобы учиться знакомиться, дружить, более робкий малыш пользуется умениями брата/сёстры. Один малыш быстро справляется с задачами, другой же в виду своего темперамента делает все медленно, чем вызывает недовольство родителей и тогда, в виду разных причин, более шустрый малыш берет больше ответственности на себя и выполняет роль родителя для брата или сестры (начинает помогать, контролировать, поучать и т.п.)
Или в школьном возрасте двойняшки зачастую делят уроки и каждый делает то, что ему даётся легче, сложное же списывает у близнеца. Это прекрасная возможность и значительно облегчает жизнь, однако есть и оборотная сторона этой выгоды. Так ребёнок, испытывающий сложности в освоении предмета, не учится преодолевать их, а справляется с ними за счет брата или сестры, но стоит ему остаться одному — задача становится невыполнимой. Важно замечать индивидуальность каждого ребёнка и помогать развивать психологическую и физиологическую автономность каждому ребёнку отдельно. В этом хорошо помогает практика, когда родители проводят время с каждым из близнецов отдельно, записывают детей в разные секции согласно индивидуальным особенностям и интересам каждого ребёнка. Дают детям разные поручения и ставят перед ними разные задачи.
В подростковом возрасте близнецам/двойняшкам предстоит сепарироваться не только от родителей, а ещё и от своего близнеца. Как правило, один из них (тот, чей социальный и коммуникативный навык развит меньше) не готов к отделению и может испытывать сложности, адаптируясь к миру самостоятельно, не пользуясь братом или сестрой, общаясь с его друзьями, интересуясь его увлечениями, избегая таким образом встречи с собственными проблемными зонами.
И если брат/сестра отделяется, желая большей автономности, страдает, ревнует и т. п. Это вызывает проблемы уже внутри близнецовой пары и отношения одного из пары могут становиться контрзависимыми.
Так как каждому из близнецов необходимо осознать себя отдельной личностью, важно и необходимо с раннего детства подчеркивать индивидуальные способности и особенности каждого из близнецов, поддерживая и учитывая желания и потребности каждого ребёнка. Обращать внимание на желания, потребности, особенности каждого, при этом избегая сравнения, препятствующего развитию гармоничной личности.
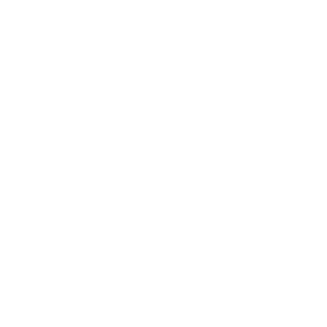
Отвечает Мария Чистосердова, экзистенциальный психотерапевт
Отношения с братьями и сёстрами — это очень важные отношения в жизни любого человека, которые начинаются рано и длятся долго. Конфликты между сиблингами не редкость и могут случаться по самым разным причинам. В конфликте дети познают себя и мир, учатся отстаивать свою точку зрения, договариваться, мириться. Многие родители не предоставляют детям возможность самим найти выход из проблемной ситуации, вмешиваются в конфликт, беря на себя роль «судьи», тем самым нарушая естественный процесс обучения важным навыкам. Многие усугубляют ситуацию, принимая сторону одного из детей. В этом случае агрессия будет постоянно подавляться, а отношения между детьми ухудшатся. Конечно родитель не должен оставаться в стороне, когда дети дерутся и причиняют реальный ущерб друг другу. В такой ситуации родителю важно разнять детей, помочь им успокоиться, а затем обсудить с ними произошедшее, предложить детям подумать, как можно было решить конфликт без ущерба. В отличие от единственного ребёнка сиблинги рано учатся сотрудничать, благодаря отношениям, которые они не в силах разорвать. Мало какие отношения заключают в себе столько любви и столько ненависти, столько щедрости и столько зависти, столько солидарности и желание быть вместе и столько ледяного отчуждения.
Отношения с братьями и сёстрами — это очень важные отношения в жизни любого человека, которые начинаются рано и длятся долго. Конфликты между сиблингами не редкость и могут случаться по самым разным причинам. В конфликте дети познают себя и мир, учатся отстаивать свою точку зрения, договариваться, мириться. Многие родители не предоставляют детям возможность самим найти выход из проблемной ситуации, вмешиваются в конфликт, беря на себя роль «судьи», тем самым нарушая естественный процесс обучения важным навыкам. Многие усугубляют ситуацию, принимая сторону одного из детей. В этом случае агрессия будет постоянно подавляться, а отношения между детьми ухудшатся. Конечно родитель не должен оставаться в стороне, когда дети дерутся и причиняют реальный ущерб друг другу. В такой ситуации родителю важно разнять детей, помочь им успокоиться, а затем обсудить с ними произошедшее, предложить детям подумать, как можно было решить конфликт без ущерба. В отличие от единственного ребёнка сиблинги рано учатся сотрудничать, благодаря отношениям, которые они не в силах разорвать. Мало какие отношения заключают в себе столько любви и столько ненависти, столько щедрости и столько зависти, столько солидарности и желание быть вместе и столько ледяного отчуждения.
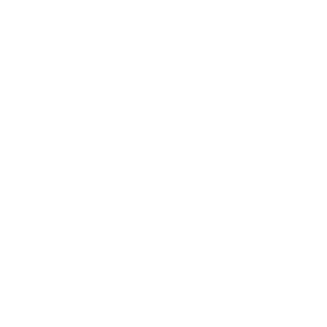
Отвечает экзистенциальный психолог, супружеский терапевт Екатерина Бойдек
Измена — это больно, потому что измена всегда про потерю. И огромная и очень ощутимая часть этой потери — утрата прежней картинки пары и партнёра. Такой, в которой все в паре верны друг другу. Когда вы говорите про пропажу доверия, вы как раз и говорите о том, что прежней картинки больше нет. Кажется, что для того, чтобы жить дальше надо ее вернуть, надо чтобы было как до измены.
Но это невозможно. Измена была. И боль от измены была и, вероятно, ещё есть и будет какое-то время. Бесполезно пытаться вернуть то, что ушло. Но можно пытаться создать новое. И для этого очень важно ответить себе на вопрос: есть ли то ценное и хорошее в отношениях, чтобы оставаться в них даже при том, что вы теперь знаете, что ваш муж не соответствует той прежней картинке, которой вы верили?
Если вы утвердительно отвечаете на этот вопрос, если вы готовы довериться новым отношениям, в которых вы уже более реалистично видите партнёра, тогда стоит вложиться в эти отношения. Вложиться обоим. Со стороны мужа важно, конечно, чтобы он признал вину и попросил прощения за причинённую боль. Но чтобы снизить риск повторения измены важно вам вдвоём понять, почему произошло то, что произошло, и что можно сделать, чтобы в дальнейшем это не повторилось.
Это непростой процесс совместного анализа и обсуждения, но если вы пройдёте его — это только укрепит пару, увеличит ваше знание друг о друге и о том, что происходит в отношениях, не надо уже будет слепо доверять. И ещё одно. Что можете сделать только вы. Старайтесь сместить фокус с мужа, делает он или не делает что-то заслуживающее доверие. Больше занимайтесь собой. Узнавайте себя, свои потребности, желания, переживания. В том числе узнавайте то, почему вам пока важно сохранять недоверие. Может быть это свидетельство не прожитой до конца боли? Неотгореванной потери? Может важно продолжать говорить о том, что вам все ещё больно? Или вам хочется больше получать подтверждения, что муж с вами, любит вас?
Слушайте свою боль, свои потребности, говорите о них, заботьтесь о себе и просите другого. Занимаясь собой вы укрепите самое главное — знание себя и доверие себе, тому, что вы все сможете пережить.
Измена — это больно, потому что измена всегда про потерю. И огромная и очень ощутимая часть этой потери — утрата прежней картинки пары и партнёра. Такой, в которой все в паре верны друг другу. Когда вы говорите про пропажу доверия, вы как раз и говорите о том, что прежней картинки больше нет. Кажется, что для того, чтобы жить дальше надо ее вернуть, надо чтобы было как до измены.
Но это невозможно. Измена была. И боль от измены была и, вероятно, ещё есть и будет какое-то время. Бесполезно пытаться вернуть то, что ушло. Но можно пытаться создать новое. И для этого очень важно ответить себе на вопрос: есть ли то ценное и хорошее в отношениях, чтобы оставаться в них даже при том, что вы теперь знаете, что ваш муж не соответствует той прежней картинке, которой вы верили?
Если вы утвердительно отвечаете на этот вопрос, если вы готовы довериться новым отношениям, в которых вы уже более реалистично видите партнёра, тогда стоит вложиться в эти отношения. Вложиться обоим. Со стороны мужа важно, конечно, чтобы он признал вину и попросил прощения за причинённую боль. Но чтобы снизить риск повторения измены важно вам вдвоём понять, почему произошло то, что произошло, и что можно сделать, чтобы в дальнейшем это не повторилось.
Это непростой процесс совместного анализа и обсуждения, но если вы пройдёте его — это только укрепит пару, увеличит ваше знание друг о друге и о том, что происходит в отношениях, не надо уже будет слепо доверять. И ещё одно. Что можете сделать только вы. Старайтесь сместить фокус с мужа, делает он или не делает что-то заслуживающее доверие. Больше занимайтесь собой. Узнавайте себя, свои потребности, желания, переживания. В том числе узнавайте то, почему вам пока важно сохранять недоверие. Может быть это свидетельство не прожитой до конца боли? Неотгореванной потери? Может важно продолжать говорить о том, что вам все ещё больно? Или вам хочется больше получать подтверждения, что муж с вами, любит вас?
Слушайте свою боль, свои потребности, говорите о них, заботьтесь о себе и просите другого. Занимаясь собой вы укрепите самое главное — знание себя и доверие себе, тому, что вы все сможете пережить.
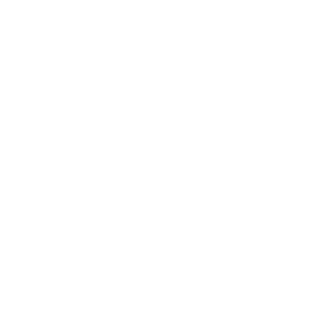
Отвечает Екатерина Стеблина, детский психолог, экзистенциальный психотерапевт
Чтобы быть видимой для людей, важно учиться понимать, чем бы вы хотели этому миру предъявляться.
А для этого важно, чтобы внутри существовали поисковые процессы, связанные с исследованием: какая вы, какие у вас потребности, желания, характер и предпочтения. Что вам нравится, а что нет.
Когда вы станете лучше себя понимать — будет понятно, чем этому миру предъявиться. Тогда есть возможность ожидать от мира, что вы будете кем-то выбраны.
Если вас выбирают, то это подразумевает, что вас наделили желаемыми качествами — кто-то увидел в вас то, что ему бы хотелось для себя. И он вас выбирает для того, чтобы привнести в свою жизнь что-то важное, что с вами бы в эту жизнь другому человеку могло прийти.
Хорошо бы пофантазировать вам самой на тему «за что бы могли меня выбрать люди». Неважно, мужчина это или женщина, друзья, коллеги… Чем вы ценны можете быть для кого-то. Можно сесть и написать качества, которые, как вам кажется, могут привлекать людей и посмотреть — чем вы можете быть для людей привлекательной. Обязательно будет какой-то ваш собственный набор качеств, который нравится людям.
И если вы ощущаете любовь к себе и видите, за что вас можно любить, сами любите себя и цените, то и людям будет не трудно увидеть в вас то, за что они могут вас любить и ценить. И за что они могут вас выбирать.
Ещё один важный момент, который может мешать проявлению себя в мир — это трудности с агрессией. Если вы хотите быть видимой и хотите быть выбранной, то это значит, что вам нужно себя предъявить. А предъявление — это всё же такой некий агрессивный акт. Показать себя, представить себя и заявить о себе. Например, заявить о себе как о профессионале или как о потенциальном партнёре. Если есть трудности с агрессией, то это будет сделать сложнее.
В том чтобы стать видимой, очень хорошо помогает процесс психотерапии. Психотерапевт отражает наши психические процессы, мы становимся видимыми для себя, для психотерапевта, а потом и мира. И тогда проще искать своих людей, которых мы выбираем и которые выбирают нас.
Желаю вам удачи!
Чтобы быть видимой для людей, важно учиться понимать, чем бы вы хотели этому миру предъявляться.
А для этого важно, чтобы внутри существовали поисковые процессы, связанные с исследованием: какая вы, какие у вас потребности, желания, характер и предпочтения. Что вам нравится, а что нет.
Когда вы станете лучше себя понимать — будет понятно, чем этому миру предъявиться. Тогда есть возможность ожидать от мира, что вы будете кем-то выбраны.
Если вас выбирают, то это подразумевает, что вас наделили желаемыми качествами — кто-то увидел в вас то, что ему бы хотелось для себя. И он вас выбирает для того, чтобы привнести в свою жизнь что-то важное, что с вами бы в эту жизнь другому человеку могло прийти.
Хорошо бы пофантазировать вам самой на тему «за что бы могли меня выбрать люди». Неважно, мужчина это или женщина, друзья, коллеги… Чем вы ценны можете быть для кого-то. Можно сесть и написать качества, которые, как вам кажется, могут привлекать людей и посмотреть — чем вы можете быть для людей привлекательной. Обязательно будет какой-то ваш собственный набор качеств, который нравится людям.
И если вы ощущаете любовь к себе и видите, за что вас можно любить, сами любите себя и цените, то и людям будет не трудно увидеть в вас то, за что они могут вас любить и ценить. И за что они могут вас выбирать.
Ещё один важный момент, который может мешать проявлению себя в мир — это трудности с агрессией. Если вы хотите быть видимой и хотите быть выбранной, то это значит, что вам нужно себя предъявить. А предъявление — это всё же такой некий агрессивный акт. Показать себя, представить себя и заявить о себе. Например, заявить о себе как о профессионале или как о потенциальном партнёре. Если есть трудности с агрессией, то это будет сделать сложнее.
В том чтобы стать видимой, очень хорошо помогает процесс психотерапии. Психотерапевт отражает наши психические процессы, мы становимся видимыми для себя, для психотерапевта, а потом и мира. И тогда проще искать своих людей, которых мы выбираем и которые выбирают нас.
Желаю вам удачи!
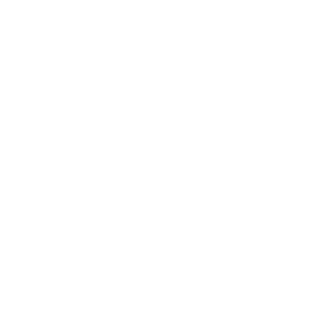
Отвечает Ирина Золотова, клинический психолог, экзистенциальный аналитик, преподаватель психологии
На тему алкоголизма родителей и влияния их на ребенка написано много книг. Не умаляя ценность ни одной из них, я бы попробовала посмотреть на эту историю сквозь призму экзистенциального подхода, а именно таких двух понятий как любовь и свобода. Отнюдь не претендуя на истину и помня, что любая семейная история всегда уникальна и зависит от многих обстоятельств, я все же взяла бы на себя смелость выделить нечто общее, что прослеживается в таком детском опыте.
Ребенок тянется навстречу взрослому. Он любит его и желает встретить его ответную любовь. При таком контакте он переживает глубокое чувство встречи с Другим (взрослым), в котором он проявляет любовь, открывается навстречу другому человеку и получает взаимную открытость. «Любить и быть любимым. Это доступно и возможно для меня», — думает он. Любовь переживается в такой встрече как ценность сама по себе. Она не для чего. Я тянусь навстречу маме, не для того, чтобы ее успокоить или получить какую-то выгоду. Я люблю ее и выражаю эту любовь, потому что внутри себя испытываю глубокую потребность в самом таком выражении. Со стороны ребенка это выражение обладает свободой. Я могу открываться навстречу тогда, когда захочу и рассчитывать на ответную открытость. Я сильный в своем таком проявлении. Я спокоен, свободен. Я просто есть и этого уже достаточно.
В ситуации родительского треугольника, связан ли он с алкоголизмом или с обычными супружескими конфликтами, ребенок невольно оказывается захвачен тяжелыми эмоциональными переживаниями родителей, которые они испытывают сами по себе и в адрес друг друга. Я могу выражать любовь папе и открываться ему навстречу не из своего желания выразить любовь как таковую, просто испытывая радость от того, что этот папа у меня есть. Мое проявление любви может быть вызвано страхом потерять его, когда я вижу, как он разрушает себя алкоголем или желанием утешить его, когда я вижу, как он расстроен из-за супружеского конфликта. В этой точке моя любовь приобретает характер вынужденности. Она спасает другого от смерти или тяжелых эмоциональных переживаний. Любовь становится средством, а я превращаюсь в того, кто спасает своего близкого, потому что боюсь его потерять.
В этом самом месте любовь и страх встречаются в моем внутреннем переживании. Я люблю того, чьи действия вызывают у меня страх. Во взрослой жизни это может проявляться в необъяснимом притяжении к людям, которые разрушают себя алкоголем, работой без отдыха, чрезмерными требованиями к себе, экстремальным поведением. Даже в тех ситуациях, когда человек не разрушает себя, а просто выражает мне свои желания, я могу быть настолько этими его желаниями захвачен, что они начинают присутствовать для меня как мои собственные, а я как человек исчезаю. Проживая, таким образом, не свою собственную жизнь, а жизнь в подчинении у другого я теряю и любовь и свободу и в конечном итоге самого себя. Я начинаю воспринимать себя и свою жизнь не как ценность саму по себе данную, а как функцию. Я есть здесь для кого-то и для чего-то. Такой функциональный подход к себе приводит к ощущению скуки, однообразия и суженности (несвободы) в жизни. Мешает творчеству и жизни как таковой.
Есть еще один аспект переживаний в таком треугольнике. Ребенок, проявляя открытость, по отношению к одному взрослому не может предъявить эту свою любовь к нему другому взрослому, зная, что маме это не понравится. Таким образом, проявляя любовь к папе, я предаю любовь к маме, проявляя любовь к маме, я предаю любовь к папе. Любовь встречается в моем внутреннем переживании с предательством и потерей. Я не могу любить и папу и маму и свободны выражать свою любовь или к ним обоим или к одному из них, будучи при этом принятым другим. Любовь становится запретной и постыдной слабостью. Вырастая, мы перестаем эту любовь выражать окружающим именно в то самое мгновение, когда мы охвачены этим чувством. Мы можем произносить эти слова: «Я люблю тебя», но ничего не испытывать при этом.
Именно в те минуты, когда чувство любви свободное и спокойное будет охватывать нас, именно тогда нам может быть очень стыдно его проявлять и открыто выражать Другому. Либо я предаю другого и не говорю ему о своем чувстве, либо, если я его выражаю, то в этот же момент я как будто, предаю самого себя. Та самая встреча, о которой мы говорили в самом начале, когда я люблю и открыто говорю об этом и Другой открывается мне навстречу в своей любви, становится невозможна. Мы бежим от этого, боимся или отшатываемся от Другого, когда он в своем искреннем выражении чувства открывается нам.
На тему алкоголизма родителей и влияния их на ребенка написано много книг. Не умаляя ценность ни одной из них, я бы попробовала посмотреть на эту историю сквозь призму экзистенциального подхода, а именно таких двух понятий как любовь и свобода. Отнюдь не претендуя на истину и помня, что любая семейная история всегда уникальна и зависит от многих обстоятельств, я все же взяла бы на себя смелость выделить нечто общее, что прослеживается в таком детском опыте.
Ребенок тянется навстречу взрослому. Он любит его и желает встретить его ответную любовь. При таком контакте он переживает глубокое чувство встречи с Другим (взрослым), в котором он проявляет любовь, открывается навстречу другому человеку и получает взаимную открытость. «Любить и быть любимым. Это доступно и возможно для меня», — думает он. Любовь переживается в такой встрече как ценность сама по себе. Она не для чего. Я тянусь навстречу маме, не для того, чтобы ее успокоить или получить какую-то выгоду. Я люблю ее и выражаю эту любовь, потому что внутри себя испытываю глубокую потребность в самом таком выражении. Со стороны ребенка это выражение обладает свободой. Я могу открываться навстречу тогда, когда захочу и рассчитывать на ответную открытость. Я сильный в своем таком проявлении. Я спокоен, свободен. Я просто есть и этого уже достаточно.
В ситуации родительского треугольника, связан ли он с алкоголизмом или с обычными супружескими конфликтами, ребенок невольно оказывается захвачен тяжелыми эмоциональными переживаниями родителей, которые они испытывают сами по себе и в адрес друг друга. Я могу выражать любовь папе и открываться ему навстречу не из своего желания выразить любовь как таковую, просто испытывая радость от того, что этот папа у меня есть. Мое проявление любви может быть вызвано страхом потерять его, когда я вижу, как он разрушает себя алкоголем или желанием утешить его, когда я вижу, как он расстроен из-за супружеского конфликта. В этой точке моя любовь приобретает характер вынужденности. Она спасает другого от смерти или тяжелых эмоциональных переживаний. Любовь становится средством, а я превращаюсь в того, кто спасает своего близкого, потому что боюсь его потерять.
В этом самом месте любовь и страх встречаются в моем внутреннем переживании. Я люблю того, чьи действия вызывают у меня страх. Во взрослой жизни это может проявляться в необъяснимом притяжении к людям, которые разрушают себя алкоголем, работой без отдыха, чрезмерными требованиями к себе, экстремальным поведением. Даже в тех ситуациях, когда человек не разрушает себя, а просто выражает мне свои желания, я могу быть настолько этими его желаниями захвачен, что они начинают присутствовать для меня как мои собственные, а я как человек исчезаю. Проживая, таким образом, не свою собственную жизнь, а жизнь в подчинении у другого я теряю и любовь и свободу и в конечном итоге самого себя. Я начинаю воспринимать себя и свою жизнь не как ценность саму по себе данную, а как функцию. Я есть здесь для кого-то и для чего-то. Такой функциональный подход к себе приводит к ощущению скуки, однообразия и суженности (несвободы) в жизни. Мешает творчеству и жизни как таковой.
Есть еще один аспект переживаний в таком треугольнике. Ребенок, проявляя открытость, по отношению к одному взрослому не может предъявить эту свою любовь к нему другому взрослому, зная, что маме это не понравится. Таким образом, проявляя любовь к папе, я предаю любовь к маме, проявляя любовь к маме, я предаю любовь к папе. Любовь встречается в моем внутреннем переживании с предательством и потерей. Я не могу любить и папу и маму и свободны выражать свою любовь или к ним обоим или к одному из них, будучи при этом принятым другим. Любовь становится запретной и постыдной слабостью. Вырастая, мы перестаем эту любовь выражать окружающим именно в то самое мгновение, когда мы охвачены этим чувством. Мы можем произносить эти слова: «Я люблю тебя», но ничего не испытывать при этом.
Именно в те минуты, когда чувство любви свободное и спокойное будет охватывать нас, именно тогда нам может быть очень стыдно его проявлять и открыто выражать Другому. Либо я предаю другого и не говорю ему о своем чувстве, либо, если я его выражаю, то в этот же момент я как будто, предаю самого себя. Та самая встреча, о которой мы говорили в самом начале, когда я люблю и открыто говорю об этом и Другой открывается мне навстречу в своей любви, становится невозможна. Мы бежим от этого, боимся или отшатываемся от Другого, когда он в своем искреннем выражении чувства открывается нам.
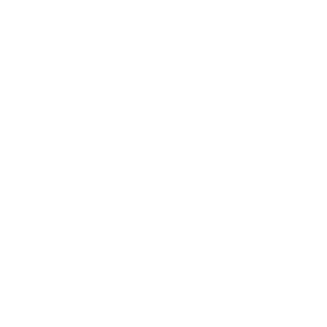
Отвечает Мария Волошина, клинический психолог, психотерапевт, супервизор
Стоит начать с того, что ходить к психологу и проходить психотерапию — это разные вещи.
Если Вы ходите на консультации по запросу, формат может быть разным, главное, чтобы он был понятен всем участникам. Ну как длительность консультации у врача, урок в школе, пара в институте, сеанса массажа и т. д.
Если говорить о психотерапии как об организованной деятельности, которая имеет свою историю развития и условия ее осуществления, то это автоматически означает, что у нее есть некоторые правила. Без них она не будет являться тем, чем она является. Психотерапия — не услуга, а лечение. И одно из условий такого лечения — это фиксированная длительность сессии/сеанса. В обычной практике это 45, 50, 60 минут.
Здесь два аспекта: и длительность встречи по времени и сам факт того, что это время ограничено. Оба имеют отношение к понятию сеттинга в терапии, то есть рамок, в которых помещен процесс и разворачивается терапевтическая работа как отношения между двумя людьми, которые соглашаются с принятием определенных ролей для решения конкретной задачи. Ведь никакая совместная деятельность невозможна без правил, иначе она становится хаосом с непонятным распределением ролей и исходом. Договариваясь о прохождении терапии мы также договариваемся о том, как именно деньги пациента будут обмениваться на время терапевта.
Мы живем в мире условностей, в котором ничто не безгранично, у всего есть параметры и ограничения. Это суровая правда жизни. Уметь их учитывать и в них жить — важный показатель психического здоровья. И мне представляется человек в помогающей профессии должен это уметь, своим примером показывая клиентам, что это естественный порядок вещей, хоть и не всегда приятный.
Ставить длительность сеанса в зависимость от удовлетворенности клиента — его субъективного ощущения, что работа дошла до сути — будет как минимум неполезно для клиента, а максимум неэтично. Потому что в этом случае специалист берет на себя роль всемогущего, всесильного и всезнающего взрослого, цель которого любой ценой — силами, временем разобраться, как удовлетворить другого. Это соблазнительная и приятная мысль — иметь такого человека, но в жизни невыполнимая. И такая деятельность, на мой взгляд, не будет иметь отношения к психологической помощи. Не ее цель — стать идеальным объектом, который может дать всё, что нужно, защитить, долюбить, возместить ущерб, закрыть дефициты.
Как пишет Нэнси Мак-Вильямс, «некоторые пациенты всю жизнь живут по сценарию, в котором пытаются заставить воображаемую могущественную мать увидеть, как они страдают, чтобы она вмешалась и спасла их.
Они приходят с этим шаблоном в психотерапию и проводят сеанс за сеансом, развивая свою боль и сопротивляясь попыткам терапевта помочь им понять, что пора отказаться от мечты об идеальном родителе и оплакать ее, чтобы обрести способность наслаждаться несовершенными людьми и несовершенными радостями, предлагаемыми жизнью».
В процессе терапии у клиента поднимаются и развиваются разного рода переживания, тревоги, связанные и с его трудностями, с взаимодействием с терапевтом и, в том числе часто в связи с окончанием встреч, перерывами в работе, отпусками. И одна из задач в терапии — их перерабатывать. Отсутствие понятных границ не будет этому помогать.
Довести что-либо до сути за одну встречу, пусть даже двухчасовую — невозможно, психические процессы, работа психики имеют свое время, ритм, цикличность, условия и занимают не одну встречу. Да и вопрос — что именно вы называете сутью. Для клиента внутри процесса — это может быть одно, а специалиста, который видит процесс более объемно и со стороны — это другое. Я бы не стала называть разовое облегчение, понимание, инсайт или удовлетворение сутью. Часто суть — это появление болезненных, ранее подавленных переживаний, воспоминаний, проявление своих разрушительных сторон. Это тоже часть терапии. Будете ли Вы этим довольны? Чисто по-человечески, вряд ли, это очень тяжело.
Психотерапия — это сложная, эмоционально затратная работа, и она должна быть организована так, как это удобно для терапевта, чтобы он мог ее делать, не истощаясь и не выгорая.
Это зависит от конкретного терапевта и того, что он видит приемлемым для своей работы и еженедельного расписания. Как может ни показаться странным, это важный фактор.
Человек элементарно должен рассчитывать свои силы и отдыхать между пациентами в понятном и стабильном для себя ритме, понимать, сколько пациентов в день он может принять.
Сессия в 50 минут является удобной профессиональной традицией, когда специалист оставляет себе 10 минут отдыха в конце каждого часа и начинает прием ровно со следующего часа. Это четкий и понятный ритм работы.
Если нет разумного графика, конкретной длительности сессий, объема работы, дохода, который она приносит, терапевта не будет хватать на всех пациентов, и даже более — на свою жизнь, здоровье, отношения, близких, развитие и т. д. Он будет уставать, истощаться, испытывать неудовлетворение. Навряд ли такой измученный человек сможет кому-то помочь.
Постоянные место и время, понятные условия работы, регулярности, оплаты, являются гарантами возможности проведения терапии для всех участников процесса. Так что в итоге я бы сказала, что фиксированное время — это хороший критерий среди некоторых других, по которому можно отличить квалифицированную психологическую помощь от «дикой» терапии.
Стоит начать с того, что ходить к психологу и проходить психотерапию — это разные вещи.
Если Вы ходите на консультации по запросу, формат может быть разным, главное, чтобы он был понятен всем участникам. Ну как длительность консультации у врача, урок в школе, пара в институте, сеанса массажа и т. д.
Если говорить о психотерапии как об организованной деятельности, которая имеет свою историю развития и условия ее осуществления, то это автоматически означает, что у нее есть некоторые правила. Без них она не будет являться тем, чем она является. Психотерапия — не услуга, а лечение. И одно из условий такого лечения — это фиксированная длительность сессии/сеанса. В обычной практике это 45, 50, 60 минут.
Здесь два аспекта: и длительность встречи по времени и сам факт того, что это время ограничено. Оба имеют отношение к понятию сеттинга в терапии, то есть рамок, в которых помещен процесс и разворачивается терапевтическая работа как отношения между двумя людьми, которые соглашаются с принятием определенных ролей для решения конкретной задачи. Ведь никакая совместная деятельность невозможна без правил, иначе она становится хаосом с непонятным распределением ролей и исходом. Договариваясь о прохождении терапии мы также договариваемся о том, как именно деньги пациента будут обмениваться на время терапевта.
Мы живем в мире условностей, в котором ничто не безгранично, у всего есть параметры и ограничения. Это суровая правда жизни. Уметь их учитывать и в них жить — важный показатель психического здоровья. И мне представляется человек в помогающей профессии должен это уметь, своим примером показывая клиентам, что это естественный порядок вещей, хоть и не всегда приятный.
Ставить длительность сеанса в зависимость от удовлетворенности клиента — его субъективного ощущения, что работа дошла до сути — будет как минимум неполезно для клиента, а максимум неэтично. Потому что в этом случае специалист берет на себя роль всемогущего, всесильного и всезнающего взрослого, цель которого любой ценой — силами, временем разобраться, как удовлетворить другого. Это соблазнительная и приятная мысль — иметь такого человека, но в жизни невыполнимая. И такая деятельность, на мой взгляд, не будет иметь отношения к психологической помощи. Не ее цель — стать идеальным объектом, который может дать всё, что нужно, защитить, долюбить, возместить ущерб, закрыть дефициты.
Как пишет Нэнси Мак-Вильямс, «некоторые пациенты всю жизнь живут по сценарию, в котором пытаются заставить воображаемую могущественную мать увидеть, как они страдают, чтобы она вмешалась и спасла их.
Они приходят с этим шаблоном в психотерапию и проводят сеанс за сеансом, развивая свою боль и сопротивляясь попыткам терапевта помочь им понять, что пора отказаться от мечты об идеальном родителе и оплакать ее, чтобы обрести способность наслаждаться несовершенными людьми и несовершенными радостями, предлагаемыми жизнью».
В процессе терапии у клиента поднимаются и развиваются разного рода переживания, тревоги, связанные и с его трудностями, с взаимодействием с терапевтом и, в том числе часто в связи с окончанием встреч, перерывами в работе, отпусками. И одна из задач в терапии — их перерабатывать. Отсутствие понятных границ не будет этому помогать.
Довести что-либо до сути за одну встречу, пусть даже двухчасовую — невозможно, психические процессы, работа психики имеют свое время, ритм, цикличность, условия и занимают не одну встречу. Да и вопрос — что именно вы называете сутью. Для клиента внутри процесса — это может быть одно, а специалиста, который видит процесс более объемно и со стороны — это другое. Я бы не стала называть разовое облегчение, понимание, инсайт или удовлетворение сутью. Часто суть — это появление болезненных, ранее подавленных переживаний, воспоминаний, проявление своих разрушительных сторон. Это тоже часть терапии. Будете ли Вы этим довольны? Чисто по-человечески, вряд ли, это очень тяжело.
Психотерапия — это сложная, эмоционально затратная работа, и она должна быть организована так, как это удобно для терапевта, чтобы он мог ее делать, не истощаясь и не выгорая.
Это зависит от конкретного терапевта и того, что он видит приемлемым для своей работы и еженедельного расписания. Как может ни показаться странным, это важный фактор.
Человек элементарно должен рассчитывать свои силы и отдыхать между пациентами в понятном и стабильном для себя ритме, понимать, сколько пациентов в день он может принять.
Сессия в 50 минут является удобной профессиональной традицией, когда специалист оставляет себе 10 минут отдыха в конце каждого часа и начинает прием ровно со следующего часа. Это четкий и понятный ритм работы.
Если нет разумного графика, конкретной длительности сессий, объема работы, дохода, который она приносит, терапевта не будет хватать на всех пациентов, и даже более — на свою жизнь, здоровье, отношения, близких, развитие и т. д. Он будет уставать, истощаться, испытывать неудовлетворение. Навряд ли такой измученный человек сможет кому-то помочь.
Постоянные место и время, понятные условия работы, регулярности, оплаты, являются гарантами возможности проведения терапии для всех участников процесса. Так что в итоге я бы сказала, что фиксированное время — это хороший критерий среди некоторых других, по которому можно отличить квалифицированную психологическую помощь от «дикой» терапии.
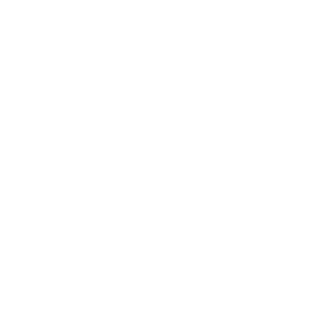
Отвечает Римма Чеботарева, практикующий психолог
Давайте попробуем вместе разобраться, что значит «поддержать»?
Поддержать — это не значит найти выход из ситуации, спасти, или избавить от страданий. Если вы ждали от себя чего-то из вышеперечисленного — это и правда непосильная ноша. Эмоциональная поддержка — это умение разделить чувства, эмоции другого человека, побыть рядом. Главное, что мы можем дать другому человеку — это ощущение понятости, чувство, что в своём горе и переживаниях он не один.
Так уж мы устроены, что нет обезболивающего от душевных страданий, боль нельзя переступить, выкинуть, отодвинуть, ее можно только пережить и разделить. Прочитав вопрос, я подумала о чувствах автора, стоящих за ним. И слышится мне в этом вопросе усталость и бессилие одновременно с требованием к себе быть сильным. Но иногда большее, что мы можем сделать для себя и для человека рядом — это признать свою слабость, позволить себе не справляться. Согласитесь, сложно переживать и позволить себе брать помощь, когда рядом есть железный человек, супергерой. Возможно, вам удастся увидеть фразу «каждый нуждается в помощи» не как требование к себе быть сильным, а как разрешение тоже нуждаться. Иногда позволить себе не справляться — это справиться по-новому.
Давайте попробуем вместе разобраться, что значит «поддержать»?
Поддержать — это не значит найти выход из ситуации, спасти, или избавить от страданий. Если вы ждали от себя чего-то из вышеперечисленного — это и правда непосильная ноша. Эмоциональная поддержка — это умение разделить чувства, эмоции другого человека, побыть рядом. Главное, что мы можем дать другому человеку — это ощущение понятости, чувство, что в своём горе и переживаниях он не один.
Так уж мы устроены, что нет обезболивающего от душевных страданий, боль нельзя переступить, выкинуть, отодвинуть, ее можно только пережить и разделить. Прочитав вопрос, я подумала о чувствах автора, стоящих за ним. И слышится мне в этом вопросе усталость и бессилие одновременно с требованием к себе быть сильным. Но иногда большее, что мы можем сделать для себя и для человека рядом — это признать свою слабость, позволить себе не справляться. Согласитесь, сложно переживать и позволить себе брать помощь, когда рядом есть железный человек, супергерой. Возможно, вам удастся увидеть фразу «каждый нуждается в помощи» не как требование к себе быть сильным, а как разрешение тоже нуждаться. Иногда позволить себе не справляться — это справиться по-новому.
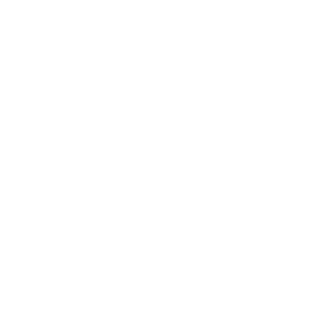
Отвечает Ася Георгиева, экзистенциальный психотерапевт, ведущая терапевтических групп
Я думаю, что главное, что можно сделать, когда подросток переживает про важные для него отношения, так это воспринимать все всерьёз, дать возможность выговориться, не оценивая и не обесценивая тот опыт и те чувства, которые он проживает сейчас и сохраняя собственное спокойствие. Такое отношение взрослых помогает формировать доверие в отношениях, а доверие очень хрупкая субстанция в подростковом возрасте. Мне кажется, что в такие моменты хорошо бы вспомнить себя в подростковом возрасте, как непросто было переживать расставания, недопонимания, ссоры, неразделенность, насколько было порою тяжело или невыносимо и подумать о том, что для вас тогда было бы поддерживающим и утешительным, какие слова или какое поведение собственных родителей было бы для вас тогда целебным. Почти у каждого взрослого есть такие воспоминания, ну или как минимум опыт друзей или близких. Хорошо бы напомнить себе, что неразделенная (или несчастливая) любовь в таком возрасте это этап эмоционального развития и взросления.
Чего точно не стоит делать, даже если ваша тревога зашкаливает, так это устраивать допросы, или каким то способом пытаться контролировать жизнь подростка и его отношения, это будет восприниматься скорее как нападение, и может вызвать протест, отчуждение или отобьёт напрочь желание делиться, помните, что подростки особенно ранимы и уязвимы (хотя часто внешне это скорее может выглядеть наоборот).
Если в моменте покажется это уместным, то можно поделиться своим опытом схожих переживаний, как вам было и что вам помогло справиться, как повлияло на вашу жизнь и какой оставило след.
Самое важное, что можно дать своему взрослеющему ребёнку в этот момент, так это своё участие, разделённость, понимание и уважение к его переживаниям, тепло и любовь. Но а сам факт того, что он пришёл к вам поделиться своей болью скорее говорит о том, что много хорошего в вашем совместном пути родителя и ребёнка уже случилось.
Я думаю, что главное, что можно сделать, когда подросток переживает про важные для него отношения, так это воспринимать все всерьёз, дать возможность выговориться, не оценивая и не обесценивая тот опыт и те чувства, которые он проживает сейчас и сохраняя собственное спокойствие. Такое отношение взрослых помогает формировать доверие в отношениях, а доверие очень хрупкая субстанция в подростковом возрасте. Мне кажется, что в такие моменты хорошо бы вспомнить себя в подростковом возрасте, как непросто было переживать расставания, недопонимания, ссоры, неразделенность, насколько было порою тяжело или невыносимо и подумать о том, что для вас тогда было бы поддерживающим и утешительным, какие слова или какое поведение собственных родителей было бы для вас тогда целебным. Почти у каждого взрослого есть такие воспоминания, ну или как минимум опыт друзей или близких. Хорошо бы напомнить себе, что неразделенная (или несчастливая) любовь в таком возрасте это этап эмоционального развития и взросления.
Чего точно не стоит делать, даже если ваша тревога зашкаливает, так это устраивать допросы, или каким то способом пытаться контролировать жизнь подростка и его отношения, это будет восприниматься скорее как нападение, и может вызвать протест, отчуждение или отобьёт напрочь желание делиться, помните, что подростки особенно ранимы и уязвимы (хотя часто внешне это скорее может выглядеть наоборот).
Если в моменте покажется это уместным, то можно поделиться своим опытом схожих переживаний, как вам было и что вам помогло справиться, как повлияло на вашу жизнь и какой оставило след.
Самое важное, что можно дать своему взрослеющему ребёнку в этот момент, так это своё участие, разделённость, понимание и уважение к его переживаниям, тепло и любовь. Но а сам факт того, что он пришёл к вам поделиться своей болью скорее говорит о том, что много хорошего в вашем совместном пути родителя и ребёнка уже случилось.
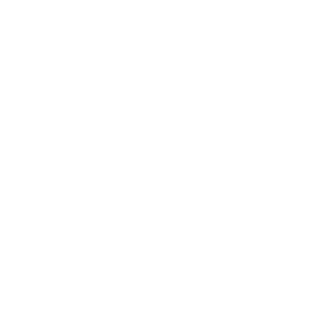
Мария Павлова, психотерапевт, преподаватель, супервизор
Мне кажется, автор вопроса хочет спасти свою возлюбленную из странного и мучительного брака, в котором больше детско-родительского, чем супружеского. Брак не оформлен, что довольно обычно для нашего времени. В то же время конфигурация брака такова, что в нем неравномерно распределены власть и полномочия: есть старший партнер и младший партнер не только по формальному признаку возраста. Разумеется регистрация брака не изменит ситуацию, если в паре нет понимания символического смысла брака: совместность и взаимность не только секса, но и прав и обязанностей, защиты и безопасности.
Возможно, пара, в которой автор нашел свою Дульсинею, находится в созависимых отношениях, пробить брешь в которых без сознательного желания участника таких отношений практически невозможно даже энергией рыцарского желания третьего участника. Более того, мне кажется, автор уже вовлечен или с большой вероятностью будет вовлечен в созависимые отношения, попадая в роль контролируемого и отсылаемого «младшего» партнера своей возлюбленной. И здесь необходимо уже его собственное желание из таких отношений выбраться как можно быстрее. Я так же думаю, что автору письма стоит разобраться со старшими мужскими фигурами внутри своей души, а не на реальном «поле боя» с немолодым созависимым деспотом, и не тратить свои энергию молодости и благородства на борьбу с ветряными мельницами — неравным, но доказавшим свою устойчивость браком. Придется признать потерю своей влюбленности. После признания потерь, жизнь дает новые возможности.
Берегите себя!
Мне кажется, автор вопроса хочет спасти свою возлюбленную из странного и мучительного брака, в котором больше детско-родительского, чем супружеского. Брак не оформлен, что довольно обычно для нашего времени. В то же время конфигурация брака такова, что в нем неравномерно распределены власть и полномочия: есть старший партнер и младший партнер не только по формальному признаку возраста. Разумеется регистрация брака не изменит ситуацию, если в паре нет понимания символического смысла брака: совместность и взаимность не только секса, но и прав и обязанностей, защиты и безопасности.
Возможно, пара, в которой автор нашел свою Дульсинею, находится в созависимых отношениях, пробить брешь в которых без сознательного желания участника таких отношений практически невозможно даже энергией рыцарского желания третьего участника. Более того, мне кажется, автор уже вовлечен или с большой вероятностью будет вовлечен в созависимые отношения, попадая в роль контролируемого и отсылаемого «младшего» партнера своей возлюбленной. И здесь необходимо уже его собственное желание из таких отношений выбраться как можно быстрее. Я так же думаю, что автору письма стоит разобраться со старшими мужскими фигурами внутри своей души, а не на реальном «поле боя» с немолодым созависимым деспотом, и не тратить свои энергию молодости и благородства на борьбу с ветряными мельницами — неравным, но доказавшим свою устойчивость браком. Придется признать потерю своей влюбленности. После признания потерь, жизнь дает новые возможности.
Берегите себя!
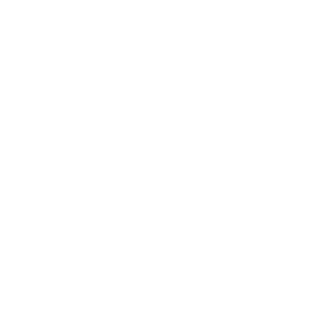
Отвечает Яна Джурхадзе, психолог, экзистенциальный психотерапевт, бизнес-тренер
Защита диссертации (диплома, презентации, отчета — подставьте свое) — одна из самых стрессовых ситуаций повседневной жизни. Как правило, этому моменту предшествует большой путь — месяцами, если не годами, мы взращиваем свою экспертность, набираем знания и навыки, карабкаемся за достижениями, сверяемся с мнениями наставников (партнеров, клиентов, учеников), рискуем, ошибаемся, меняемся и накапливаем бесценный опыт. В результате наше представление о себе во многом складывается из этого опыта, более того — мы с ним идентифицируемся, и это становится значимой частью нашего Я.
И тут — защита проекта. Как реагирует психика? Ей нужно мобилизовать наше Я, «причесать» и показать самой сильной стороной, имея в запасе всего несколько минут презентации, перед почти незнакомыми людьми, в обстановке «сейчас решается, кто я» — эксперт (ценный) или недоэксперт (обесцененный). И второй вариант чаще звучит менее привлекательно: дилетант, самозванец, недоучка и т. д.
Все усугубляет погружение в архетипически пугающую ситуацию: Я будто выносит на «суд» самое ценное, и ждёт оценки от ДРУГИХ — больших, умных, опытных. То есть Я заведомо в уязвимом положении — он зависим, это очевидно всем вокруг, и вынужден ждать публичный вердикт (позор? триумф?). Словно маленький малыш, который ждёт, как родители (читай, Боги!) отреагируют на его замечательную каляку, нарисованную хорошо, если в альбоме.
И вот тут есть варианты. Если Ваш опыт наполнен или хотя бы имеет в наличии признание:
— Мы любим тебя, вне зависимости от твоих результатов, оценок, достижений
— Ты хороший, а вот твои поступки могут быть хорошими и плохими
— Для меня всегда важнее ты и твои чувства, а не то, что скажут другие
То вероятно в процессе Вашего становления как эксперта, удавалось присваивать свои достижения, принимать ошибки как часть развития, опираться и доверять отзывам наставников. И все это помогло сформировать прочный фундамент самооценки, в котором Ваше Я — это не только эксперт, но и многие другие роли. Тогда неудача в одной области может быть компенсирована стабильным течением в другой. Более того, Вы открыты к обратной связи и воспринимаете ее как возможность роста, а значит, любой итог защиты будет просто вехой на пути.
Однако, если впитанные установки скорее про:
— В смысле хвалить за пятерку? Это норма
— Бестолочь, ничего нормально сделать не можешь
— Что скажут люди? Как можно так опозориться!
То любая ситуация оценивания всколыхнёт детский опыт, где норма — скорее обесценивание. Это значит, нужно прилагать сверхусилия, чтобы избежать переживание никчемности или разоблачения, за которыми часто стоит стыд и фундаментальный ужас маленького ребенка быть отвергнутым.
Но всегда оказывается будто недостаточно. Потому что присвоить достижение рискованно — а вдруг ОНИ снова не признают? И тогда опять стыд, ужас и отвержение. Лучше сразу подстрахуюсь — приложу сверхусилия, получу сверхрезультат, а потом на всякий случай первым обесценю. Так не будет больно. Правда и удовлетворения что-то тоже нет, но это ерунда, главное не останавливаться.
Защита диссертации (диплома, презентации, отчета — подставьте свое) — одна из самых стрессовых ситуаций повседневной жизни. Как правило, этому моменту предшествует большой путь — месяцами, если не годами, мы взращиваем свою экспертность, набираем знания и навыки, карабкаемся за достижениями, сверяемся с мнениями наставников (партнеров, клиентов, учеников), рискуем, ошибаемся, меняемся и накапливаем бесценный опыт. В результате наше представление о себе во многом складывается из этого опыта, более того — мы с ним идентифицируемся, и это становится значимой частью нашего Я.
И тут — защита проекта. Как реагирует психика? Ей нужно мобилизовать наше Я, «причесать» и показать самой сильной стороной, имея в запасе всего несколько минут презентации, перед почти незнакомыми людьми, в обстановке «сейчас решается, кто я» — эксперт (ценный) или недоэксперт (обесцененный). И второй вариант чаще звучит менее привлекательно: дилетант, самозванец, недоучка и т. д.
Все усугубляет погружение в архетипически пугающую ситуацию: Я будто выносит на «суд» самое ценное, и ждёт оценки от ДРУГИХ — больших, умных, опытных. То есть Я заведомо в уязвимом положении — он зависим, это очевидно всем вокруг, и вынужден ждать публичный вердикт (позор? триумф?). Словно маленький малыш, который ждёт, как родители (читай, Боги!) отреагируют на его замечательную каляку, нарисованную хорошо, если в альбоме.
И вот тут есть варианты. Если Ваш опыт наполнен или хотя бы имеет в наличии признание:
— Мы любим тебя, вне зависимости от твоих результатов, оценок, достижений
— Ты хороший, а вот твои поступки могут быть хорошими и плохими
— Для меня всегда важнее ты и твои чувства, а не то, что скажут другие
То вероятно в процессе Вашего становления как эксперта, удавалось присваивать свои достижения, принимать ошибки как часть развития, опираться и доверять отзывам наставников. И все это помогло сформировать прочный фундамент самооценки, в котором Ваше Я — это не только эксперт, но и многие другие роли. Тогда неудача в одной области может быть компенсирована стабильным течением в другой. Более того, Вы открыты к обратной связи и воспринимаете ее как возможность роста, а значит, любой итог защиты будет просто вехой на пути.
Однако, если впитанные установки скорее про:
— В смысле хвалить за пятерку? Это норма
— Бестолочь, ничего нормально сделать не можешь
— Что скажут люди? Как можно так опозориться!
То любая ситуация оценивания всколыхнёт детский опыт, где норма — скорее обесценивание. Это значит, нужно прилагать сверхусилия, чтобы избежать переживание никчемности или разоблачения, за которыми часто стоит стыд и фундаментальный ужас маленького ребенка быть отвергнутым.
Но всегда оказывается будто недостаточно. Потому что присвоить достижение рискованно — а вдруг ОНИ снова не признают? И тогда опять стыд, ужас и отвержение. Лучше сразу подстрахуюсь — приложу сверхусилия, получу сверхрезультат, а потом на всякий случай первым обесценю. Так не будет больно. Правда и удовлетворения что-то тоже нет, но это ерунда, главное не останавливаться.
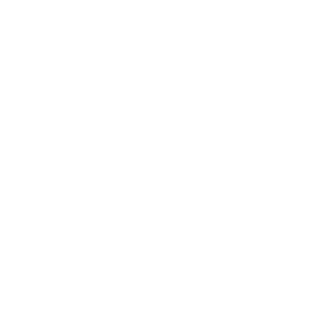
Отвечает Римма Чеботарева, практикующий психолог
Согласно классификации стрессовых событий, развод — второе событие по уровню стресса после смерти близкого человека. Это сложный и очень болезненный период, и каждый справляется с ним по-разному. И первое, что хочется сказать — дайте себе время честно прожить этот период, потому что для того чтобы начать новую жизнь, надо окончательно поставить точку в старой. А для этого, конечно, в первую очередь нужно время.
Традиционно я стараюсь понять, какие чувства стоят за вопросом автора? Может страх совершить ошибку? И тут я пригласила бы вас поразмышлять над тем, много ли вы старались в предыдущих отношениях? Развод — это всегда ответственность двух сторон, конечно, важно осознать свой вклад, но, совершенно точно, не все зависит от вас. И потом, совершать ошибки — это нормально, это очень по-человечески, мы будем совершать ошибки, потому что мы живые люди. Возможно, пришло время позволить это себе?
А может быть за этим вопросом стоит страх одиночества? И тут очень хочется поддержать автора в том, чтобы даже очень боясь, он пошёл в него. Одиночество — это возможность познакомиться с собой, разобраться в своих чувствах, понять, что важно вам. Сделайте своим главным приоритетом себя, ответьте себе на вопрос для чего вам новые отношения? Чего бы вам в них хотелось, и что было бы важно, и, конечно, говорите об этом.
В завершении хочется рассказать историю, которую я вспомнила, размышляя о вопросе. В моем рабочем кабинете росла пальма в горшке. Мне она очень нравилась, я старательно за ней ухаживала, в какой-то момент у неё начали засыхать листья, позже выяснилось, что я ее поливала слишком много и у неё сгнили корни. Я очень расстроилась, и купила в кабинет точно такую же пальму, посадила ее в тот же горшок, и стала поливать меньше. Буквально через неделю пальма завяла, я в расстроенных чувствах звоню подруге и говорю: «Вот, снова ей не так, когда поливаю мало — она вянет». «Поливай больше», — слышу в ответ. «Но, если я буду поливать больше, у неё сгниют корни!», — ответила я. И тут я услышала от моей подруги вопрос: «То есть ты с новой пальмой строишь отношения на основе неудачи с прошлой пальмой?»
Да, я делала именно так, из печали и вины, из страха новой неудачи я проигнорировала тот факт, что это все же другая пальма, и «строить с ней отношения» нужно иначе.
Поэтому пусть новые отношения будут просто новыми отношениями, с новым человеком, на основе того, что вам важно.
Согласно классификации стрессовых событий, развод — второе событие по уровню стресса после смерти близкого человека. Это сложный и очень болезненный период, и каждый справляется с ним по-разному. И первое, что хочется сказать — дайте себе время честно прожить этот период, потому что для того чтобы начать новую жизнь, надо окончательно поставить точку в старой. А для этого, конечно, в первую очередь нужно время.
Традиционно я стараюсь понять, какие чувства стоят за вопросом автора? Может страх совершить ошибку? И тут я пригласила бы вас поразмышлять над тем, много ли вы старались в предыдущих отношениях? Развод — это всегда ответственность двух сторон, конечно, важно осознать свой вклад, но, совершенно точно, не все зависит от вас. И потом, совершать ошибки — это нормально, это очень по-человечески, мы будем совершать ошибки, потому что мы живые люди. Возможно, пришло время позволить это себе?
А может быть за этим вопросом стоит страх одиночества? И тут очень хочется поддержать автора в том, чтобы даже очень боясь, он пошёл в него. Одиночество — это возможность познакомиться с собой, разобраться в своих чувствах, понять, что важно вам. Сделайте своим главным приоритетом себя, ответьте себе на вопрос для чего вам новые отношения? Чего бы вам в них хотелось, и что было бы важно, и, конечно, говорите об этом.
В завершении хочется рассказать историю, которую я вспомнила, размышляя о вопросе. В моем рабочем кабинете росла пальма в горшке. Мне она очень нравилась, я старательно за ней ухаживала, в какой-то момент у неё начали засыхать листья, позже выяснилось, что я ее поливала слишком много и у неё сгнили корни. Я очень расстроилась, и купила в кабинет точно такую же пальму, посадила ее в тот же горшок, и стала поливать меньше. Буквально через неделю пальма завяла, я в расстроенных чувствах звоню подруге и говорю: «Вот, снова ей не так, когда поливаю мало — она вянет». «Поливай больше», — слышу в ответ. «Но, если я буду поливать больше, у неё сгниют корни!», — ответила я. И тут я услышала от моей подруги вопрос: «То есть ты с новой пальмой строишь отношения на основе неудачи с прошлой пальмой?»
Да, я делала именно так, из печали и вины, из страха новой неудачи я проигнорировала тот факт, что это все же другая пальма, и «строить с ней отношения» нужно иначе.
Поэтому пусть новые отношения будут просто новыми отношениями, с новым человеком, на основе того, что вам важно.
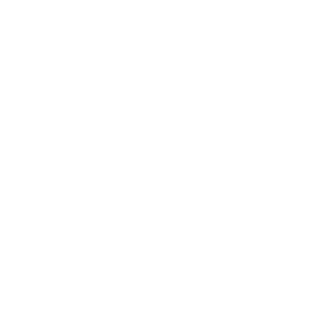
Мария Павлова, психотерапевт, преподаватель, супервизор
Я так понимаю, что этот вопрос задает коллега, детский психолог. Я не работаю с детьми и не смогу предложить тактику работы с ребенком. Но как «взрослый» психотерапевт, я заинтересовалась описанной коллегой конфигурацией отношений. В компании с «другими» ребенок «забывается», временно забывает о маме и формате своих с ней отношений, строит с «другими» другое взаимодействие. Это благоприятный признак: система манипулирования своими «отходами» и контроля «контроля» матери не является пока тотальной.
С чего я взяла, что мама контролирует? В пять лет ребенок обычно сам ходит в туалет исходя из своих потребностей, и родители обычно просто уже не знают, как много или мало он пописал или покакал. Я предполагаю, что мама либо присутствует где-то очень рядом с туалетом, либо получает вербальный отчет ребенка о его успехах в туалете. Такая ситуация говорит скорее о заинтересованности матери «содержимым» своего, как я понимаю из описания, сына. Излишняя для пяти лет фиксация мамы на туалете своего ребенка стимулирует и подпитывает желание сына обнародовать свои позывы в туалет.
Эти позывы, как мне кажется нагружены гораздо большим смыслом, чем просто опорожнение отходов. Что это за смыслы и предстоит понимать коллеге в работе с этим ребенком. Я же в свою очередь думаю, что мальчик хочет «радовать» маму своими достижениями, своим пенисом. И одновременно в этом частом мочеиспускании и запорах содержится гнев на маму, которую нужно так часто радовать.
Я бы также дала маме рекомендацию «забыться», забыть о туалете своего сына, забыть контролировать его потребности, с которыми он может справляться в пять лет самостоятельно.
Я так понимаю, что этот вопрос задает коллега, детский психолог. Я не работаю с детьми и не смогу предложить тактику работы с ребенком. Но как «взрослый» психотерапевт, я заинтересовалась описанной коллегой конфигурацией отношений. В компании с «другими» ребенок «забывается», временно забывает о маме и формате своих с ней отношений, строит с «другими» другое взаимодействие. Это благоприятный признак: система манипулирования своими «отходами» и контроля «контроля» матери не является пока тотальной.
С чего я взяла, что мама контролирует? В пять лет ребенок обычно сам ходит в туалет исходя из своих потребностей, и родители обычно просто уже не знают, как много или мало он пописал или покакал. Я предполагаю, что мама либо присутствует где-то очень рядом с туалетом, либо получает вербальный отчет ребенка о его успехах в туалете. Такая ситуация говорит скорее о заинтересованности матери «содержимым» своего, как я понимаю из описания, сына. Излишняя для пяти лет фиксация мамы на туалете своего ребенка стимулирует и подпитывает желание сына обнародовать свои позывы в туалет.
Эти позывы, как мне кажется нагружены гораздо большим смыслом, чем просто опорожнение отходов. Что это за смыслы и предстоит понимать коллеге в работе с этим ребенком. Я же в свою очередь думаю, что мальчик хочет «радовать» маму своими достижениями, своим пенисом. И одновременно в этом частом мочеиспускании и запорах содержится гнев на маму, которую нужно так часто радовать.
Я бы также дала маме рекомендацию «забыться», забыть о туалете своего сына, забыть контролировать его потребности, с которыми он может справляться в пять лет самостоятельно.
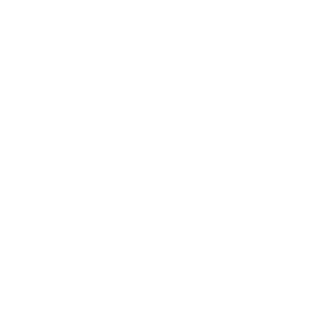
Елена Потапенко, психолог, семейный терапевт,
ведущая обучающих программ для психологов, автор книги.
К психологу ходят не за спасением, а за пониманием — что, черт возьми, происходит на самом деле.
Когда приходит ясность, то каждый сам себе спасатель. Ваш друг в этом безусловно прав, но.
Если человек живет в разрушающей или болезненной ситуации длительное время и при этом ему «все ясно», то, как правило, существуют белые пятна и искажение реальности.
Психотерапевты в таких случаях говорят, что если тебе все ясно, то, значит, ты не все учитываешь.
При чем, чем категоричнее «мне все ясно», тем сильнее искажения. И тем агрессивнее воспринимаются предположения, что можно воспользоваться психотерапией.
Возможно вашему другу нужно больше времени, чтобы разочароваться в собственных способах совладения с реальностью и смочь позволить себе обратиться за помощью к психологу.
Жаль, но ничего не поделаешь.
Пожалуй, единственное, что можно сделать в описываемой вами ситуации, это регулярно напоминать другу, что такая возможность имеется.
ведущая обучающих программ для психологов, автор книги.
К психологу ходят не за спасением, а за пониманием — что, черт возьми, происходит на самом деле.
Когда приходит ясность, то каждый сам себе спасатель. Ваш друг в этом безусловно прав, но.
Если человек живет в разрушающей или болезненной ситуации длительное время и при этом ему «все ясно», то, как правило, существуют белые пятна и искажение реальности.
Психотерапевты в таких случаях говорят, что если тебе все ясно, то, значит, ты не все учитываешь.
При чем, чем категоричнее «мне все ясно», тем сильнее искажения. И тем агрессивнее воспринимаются предположения, что можно воспользоваться психотерапией.
Возможно вашему другу нужно больше времени, чтобы разочароваться в собственных способах совладения с реальностью и смочь позволить себе обратиться за помощью к психологу.
Жаль, но ничего не поделаешь.
Пожалуй, единственное, что можно сделать в описываемой вами ситуации, это регулярно напоминать другу, что такая возможность имеется.
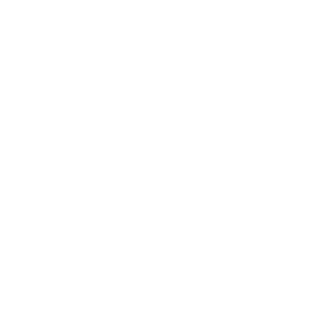
Мария Павлова, психотерапевт, преподаватель, супервизор
Я не знаю, сколько лет автору вопроса и как давно автор ищет опору в профессии, доверие к группам, знания. Возможно вообще есть проблема с доверием, поиском рефферентных групп, тревогой реализации в таких группах. С моей стороны эти слова лишь спекуляция, основанная на формулировке вопроса. Но без всяких спекуляций я точно знаю, опираясь на свой почти 30-летний опыт учеб и 20-летний опыт преподавания, что нужно начать учиться хоть где-нибудь.
Опыт разочарования поможет найти более профессиональную учебу, опыт взаимодействия с другими учащимися выведет на толковых учителей и реальные профессиональные сообщества. Мой опыт учебы также напоминает мне, что где бы я ни училась, я находила в этом пользу своей практике, пусть даже и от противного: «так я делать не буду, а как буду?»; «с этим я не согласна, но что я сама думаю по этому поводу?». Разочарование продвигало меня вперед не меньше, чем любой другой положительный опыт, и мне всегда везло найти достойные учительские объекты для подражания. И это снова возвращает меня к спекуляции о доверии.
Я не знаю, сколько лет автору вопроса и как давно автор ищет опору в профессии, доверие к группам, знания. Возможно вообще есть проблема с доверием, поиском рефферентных групп, тревогой реализации в таких группах. С моей стороны эти слова лишь спекуляция, основанная на формулировке вопроса. Но без всяких спекуляций я точно знаю, опираясь на свой почти 30-летний опыт учеб и 20-летний опыт преподавания, что нужно начать учиться хоть где-нибудь.
Опыт разочарования поможет найти более профессиональную учебу, опыт взаимодействия с другими учащимися выведет на толковых учителей и реальные профессиональные сообщества. Мой опыт учебы также напоминает мне, что где бы я ни училась, я находила в этом пользу своей практике, пусть даже и от противного: «так я делать не буду, а как буду?»; «с этим я не согласна, но что я сама думаю по этому поводу?». Разочарование продвигало меня вперед не меньше, чем любой другой положительный опыт, и мне всегда везло найти достойные учительские объекты для подражания. И это снова возвращает меня к спекуляции о доверии.
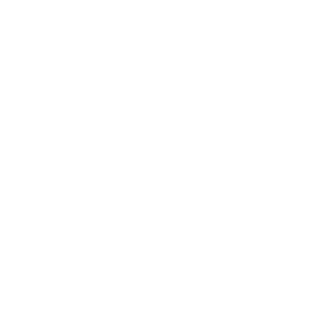
Кристина Руснак, экзистенциальный психотерапевт
Бессилие в каком-то смысле есть ответ на чувство беспомощности, ощущение бесполезности обратиться к кому-то, невозможность получить адекватный ответ извне.
Не имея опыта удовлетворения своей нужды в другом (мне страшно, я не знаю как поступить, у меня нет своих ресурсов — мне нужен кто-то, на кого я могу надеяться и он приходит в трудные моменты), мы приходим к ощущению безнадежности ждать и надеется на то, что нам помогут. Оказываемся в состоянии бессилия (сам не могу и на помощь никто не придет). Так рождается это хроническое ощущение бессилия и оно напрямую связано с невозможностью нуждаться в других людях (невозможно, ибо бесполезно).
Выход из этого состояния заключается в признании, что я не самодостаточен, мне нужен кто-то рядом, я не могу все сам, я очень нуждаюсь. Это часто равно 'я ничтожен, слаб, я какой-то ущербный и возможно из-за этого плохой'. Это частое последствие жизни в дисфункциональной семье, где нужды ребенка не удовлетворялись достаточным образом, рассчитывать на других было сложно. Такая форма привязанности — вроде как мне кто-то нужен, но на самом деле я не могу этого по настоящему хотеть и желать, нет у меня надежды, что это закончится чем-то хорошим. Приходится всячески бороться с чувством нужды, но оказываться время от времени в состоянии бессилия. Защищаться от нужды — это быть способным без всех вас обойтись. А если вдруг я не могу этого, то я не испытываю к себе уважения.
Если говорить о бессилии, то признавать его означает признать свою слабость. Я не всесилен. Я не могу один. Я когда-то был вынужден отказаться от других и не хотеть ничего от них, но это не позволяет мне жить и развиваться. Бессилие вроде и говорит о том, что я не могу чего-то, но выход мне кажется в том, чтобы говорить «я не могу один». И это очень горько и грустно, что я имею такой опыт — когда я должен мочь сам и обойтись без вас. Ощутить свою беспомощность и нуждаемость иногда бывает очень горько, болезненно трудно проживать и осознавать, что я был уязвим и одинок в своей надежде, не мог ничего поделать с этим, никого не смог дождаться.
В процессе терапии возможно пережить этот опыт, ощутив заново нужду в другом — сначала в своем терапевте, и тогда удастся выйти из ощущения бессилия, переживая каждый раз, что в своих трудностях я не один, есть тот, кто поможет мне с ними справиться.
Бессилие в каком-то смысле есть ответ на чувство беспомощности, ощущение бесполезности обратиться к кому-то, невозможность получить адекватный ответ извне.
Не имея опыта удовлетворения своей нужды в другом (мне страшно, я не знаю как поступить, у меня нет своих ресурсов — мне нужен кто-то, на кого я могу надеяться и он приходит в трудные моменты), мы приходим к ощущению безнадежности ждать и надеется на то, что нам помогут. Оказываемся в состоянии бессилия (сам не могу и на помощь никто не придет). Так рождается это хроническое ощущение бессилия и оно напрямую связано с невозможностью нуждаться в других людях (невозможно, ибо бесполезно).
Выход из этого состояния заключается в признании, что я не самодостаточен, мне нужен кто-то рядом, я не могу все сам, я очень нуждаюсь. Это часто равно 'я ничтожен, слаб, я какой-то ущербный и возможно из-за этого плохой'. Это частое последствие жизни в дисфункциональной семье, где нужды ребенка не удовлетворялись достаточным образом, рассчитывать на других было сложно. Такая форма привязанности — вроде как мне кто-то нужен, но на самом деле я не могу этого по настоящему хотеть и желать, нет у меня надежды, что это закончится чем-то хорошим. Приходится всячески бороться с чувством нужды, но оказываться время от времени в состоянии бессилия. Защищаться от нужды — это быть способным без всех вас обойтись. А если вдруг я не могу этого, то я не испытываю к себе уважения.
Если говорить о бессилии, то признавать его означает признать свою слабость. Я не всесилен. Я не могу один. Я когда-то был вынужден отказаться от других и не хотеть ничего от них, но это не позволяет мне жить и развиваться. Бессилие вроде и говорит о том, что я не могу чего-то, но выход мне кажется в том, чтобы говорить «я не могу один». И это очень горько и грустно, что я имею такой опыт — когда я должен мочь сам и обойтись без вас. Ощутить свою беспомощность и нуждаемость иногда бывает очень горько, болезненно трудно проживать и осознавать, что я был уязвим и одинок в своей надежде, не мог ничего поделать с этим, никого не смог дождаться.
В процессе терапии возможно пережить этот опыт, ощутив заново нужду в другом — сначала в своем терапевте, и тогда удастся выйти из ощущения бессилия, переживая каждый раз, что в своих трудностях я не один, есть тот, кто поможет мне с ними справиться.
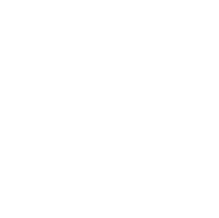
Анна Парфенова, детский психолог, консультант по детско-родительским отношениям
К сожалению, нет информации про возраст ребенка и его трудности, поэтому порассуждаю о причинах отсутствия мотивации в целом.
Отсутствие мотивации — это не лень, как часто принято считать. Скорее, у ребенка возникают трудности и переживания, которые мешают ему учиться.
Причин может быть больше, опишу некоторые из них.
1. Ребенок рано пошел в школу.
Иногда родители отдают ребенка в школу в 6 лет. В этом возрасте ребенок может неплохо читать и считать, но, ему еще трудно управлять своим поведением, эмоциями и соответствовать всем правилам школы. Это связано с недостаточной зрелостью определенных отделов головного мозга, которые отвечает за саморегуляцию, контроль, оценку своих действий. К тому же, в 6 лет основная ведущая деятельность все еще игра. По этой причине, мотивационный компонент, направленный на обучение, очень и очень слабо развит.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Если вы только планируете отдать ребенка в школу, важно оценить его психологическую и физиологическую зрелость. Например, пройти нейродиагностику или диагностику готовности к школе у детского психолога/нейропсихолога. Если же ребенок уже учится, и он рано пошел в первый класс — наблюдайте за его состоянием, не перегружайте дополнительными занятиями и репетиторами. Уделяйте больше времени отдыху, прогулкам на свежем воздухе и свободной игре. Сон и отдых от учебы — это то время, в которое психика ребенка отдыхает, восстанавливаются его силы.
2. Конфликты с учителем или одноклассниками.
Если ребенок регулярно находится в стрессовой ситуации из-за недоброго отношения, критики учителя или сверстников в его адрес, то, вся энергия будет уходить на то, чтобы справляться с переживаниями и страхами.
Часто так бывает, что именно те дети, которые не успевают за программой в силу своих особенностей, имеют трудности в поведении, записываются учителем в нелюбимчики и подвергаются игнорированию или устыжениям. Такая обстановка будет демотивировать к учебе и снижать познавательный интерес.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Обращайте внимание на любые изменения настроения ребенка. Интересуйтесь про межличностные отношения в школе. Держите связь с учителем, родителями, интересуйтесь — как видят ситуацию другие взрослые. И обязательно проинформируйте педагога о трудностях и особенностях вашего ребенка, если они есть. Иногда учителям не хватает дополнительной информации о ребенке и немного ваших границ, чтобы атмосфера в классе изменилась.
3. Школьно-подростковый возраст.
Учебная мотивация действительно снижается в подростковом возрасте и уходит на второй план.
Все дело в том, что подросток должен решить важные задачи развития:
выйти на новый уровень социальных взаимоотношений;
сформировать свою идентичность;
отделиться от родителей. Ко всему прочему, происходят гормональные и физиологические изменения, что влияет на эмоциональную нестабильность подростка.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Здесь не подходит тактика — требовать учиться, оказывать давление и упрекать. Ребенку необходимо знать, что его понимают и не отвергают за его аффекты. Но, при этом, подросток нуждается в определенных границах, в том числе, связанных с обучением. Поэтому, важно продолжать напоминать про учебу и ее значимость, показывая, что вы готовы его поддерживать в трудностях. Создание доверительных отношений с подростком помогут пройти сложные периоды с обучением гораздо спокойнее.
4. Завышенные требования родителей.
Родители могут реализовывать свои амбиции, зачисляя ребенка в лучшую школу, на несколько языков и секций, требуя хороших отметок и результатов порой не учитывая его способностей и реальных возможностей. И первое время дети могут тянуть нагрузку, чтобы не разочаровать взрослых. Но, в какой-то момент, от дикой усталости, у ребенка заканчиваются силы, начинаются болезни и тревожные состояния.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Это не простой вопрос, так как не всем взрослым удается расстаться с идей развивать своего ребенка на полную катушку. Но, все же, основное - сверяться с реальными возможностями ребенка и требованиями, которые ему транслируются. Пробовать разделить свои собственные желания, силы и потребности от желаний и потребностей ребенка. У ребенка они могут сильно отличаться от ваших.
5. Психологическое состояние родителей
Очень важно в каком состоянии находитесь вы. Если в семье регулярные конфликты, вы переполнены своими страхами и тревогой, ребенок будет заражаться этими переживаниями тоже. Для того, чтобы учиться, ребенку нужна энергия, силы и психологическая безопасность. Если ребенок не ощущает себя безопасно в семье, тревожится, все его силы будут направлены на переваривание семейных конфликтов. А учеба начнет проседать.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
В первую очередь, позаботьтесь о себе, нормализуйте свое состояние. Если ситуация не меняется, продолжаются конфликты в паре, обратитесь за помощью к специалисту. Чтобы помочь ребенку, порой нам важно начать с себя.
Возвращаясь к вопросу - «как мотивировать на учебу?», я бы порекомендовала начать с исследования причин. Когда нам понятно, что мешает ребенку учиться, появляются возможности и способы это исправить. А еще в этом вопросе нам поможет вера в ребенка и любовь.
К сожалению, нет информации про возраст ребенка и его трудности, поэтому порассуждаю о причинах отсутствия мотивации в целом.
Отсутствие мотивации — это не лень, как часто принято считать. Скорее, у ребенка возникают трудности и переживания, которые мешают ему учиться.
Причин может быть больше, опишу некоторые из них.
1. Ребенок рано пошел в школу.
Иногда родители отдают ребенка в школу в 6 лет. В этом возрасте ребенок может неплохо читать и считать, но, ему еще трудно управлять своим поведением, эмоциями и соответствовать всем правилам школы. Это связано с недостаточной зрелостью определенных отделов головного мозга, которые отвечает за саморегуляцию, контроль, оценку своих действий. К тому же, в 6 лет основная ведущая деятельность все еще игра. По этой причине, мотивационный компонент, направленный на обучение, очень и очень слабо развит.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Если вы только планируете отдать ребенка в школу, важно оценить его психологическую и физиологическую зрелость. Например, пройти нейродиагностику или диагностику готовности к школе у детского психолога/нейропсихолога. Если же ребенок уже учится, и он рано пошел в первый класс — наблюдайте за его состоянием, не перегружайте дополнительными занятиями и репетиторами. Уделяйте больше времени отдыху, прогулкам на свежем воздухе и свободной игре. Сон и отдых от учебы — это то время, в которое психика ребенка отдыхает, восстанавливаются его силы.
2. Конфликты с учителем или одноклассниками.
Если ребенок регулярно находится в стрессовой ситуации из-за недоброго отношения, критики учителя или сверстников в его адрес, то, вся энергия будет уходить на то, чтобы справляться с переживаниями и страхами.
Часто так бывает, что именно те дети, которые не успевают за программой в силу своих особенностей, имеют трудности в поведении, записываются учителем в нелюбимчики и подвергаются игнорированию или устыжениям. Такая обстановка будет демотивировать к учебе и снижать познавательный интерес.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Обращайте внимание на любые изменения настроения ребенка. Интересуйтесь про межличностные отношения в школе. Держите связь с учителем, родителями, интересуйтесь — как видят ситуацию другие взрослые. И обязательно проинформируйте педагога о трудностях и особенностях вашего ребенка, если они есть. Иногда учителям не хватает дополнительной информации о ребенке и немного ваших границ, чтобы атмосфера в классе изменилась.
3. Школьно-подростковый возраст.
Учебная мотивация действительно снижается в подростковом возрасте и уходит на второй план.
Все дело в том, что подросток должен решить важные задачи развития:
выйти на новый уровень социальных взаимоотношений;
сформировать свою идентичность;
отделиться от родителей. Ко всему прочему, происходят гормональные и физиологические изменения, что влияет на эмоциональную нестабильность подростка.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Здесь не подходит тактика — требовать учиться, оказывать давление и упрекать. Ребенку необходимо знать, что его понимают и не отвергают за его аффекты. Но, при этом, подросток нуждается в определенных границах, в том числе, связанных с обучением. Поэтому, важно продолжать напоминать про учебу и ее значимость, показывая, что вы готовы его поддерживать в трудностях. Создание доверительных отношений с подростком помогут пройти сложные периоды с обучением гораздо спокойнее.
4. Завышенные требования родителей.
Родители могут реализовывать свои амбиции, зачисляя ребенка в лучшую школу, на несколько языков и секций, требуя хороших отметок и результатов порой не учитывая его способностей и реальных возможностей. И первое время дети могут тянуть нагрузку, чтобы не разочаровать взрослых. Но, в какой-то момент, от дикой усталости, у ребенка заканчиваются силы, начинаются болезни и тревожные состояния.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Это не простой вопрос, так как не всем взрослым удается расстаться с идей развивать своего ребенка на полную катушку. Но, все же, основное - сверяться с реальными возможностями ребенка и требованиями, которые ему транслируются. Пробовать разделить свои собственные желания, силы и потребности от желаний и потребностей ребенка. У ребенка они могут сильно отличаться от ваших.
5. Психологическое состояние родителей
Очень важно в каком состоянии находитесь вы. Если в семье регулярные конфликты, вы переполнены своими страхами и тревогой, ребенок будет заражаться этими переживаниями тоже. Для того, чтобы учиться, ребенку нужна энергия, силы и психологическая безопасность. Если ребенок не ощущает себя безопасно в семье, тревожится, все его силы будут направлены на переваривание семейных конфликтов. А учеба начнет проседать.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
В первую очередь, позаботьтесь о себе, нормализуйте свое состояние. Если ситуация не меняется, продолжаются конфликты в паре, обратитесь за помощью к специалисту. Чтобы помочь ребенку, порой нам важно начать с себя.
Возвращаясь к вопросу - «как мотивировать на учебу?», я бы порекомендовала начать с исследования причин. Когда нам понятно, что мешает ребенку учиться, появляются возможности и способы это исправить. А еще в этом вопросе нам поможет вера в ребенка и любовь.
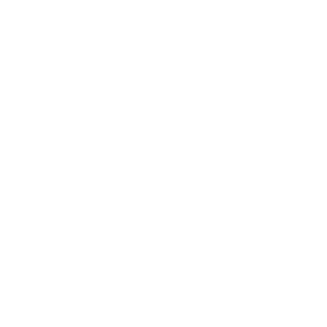
Екатерина Стеблина, детский психолог, экзистенциальный терапевт
Переезд для любого человека это сильнейший стресс.
А для ребенка это событие может стать травматичным. Попробуем разобраться, как это происходит.
Для маленького ребенка мама, а позже и оба родителя, — это весь его мир. Жилье — это вместилище этого мира (психически и физически).
Поэтому эмоционально ребенок очень привязан к тому месту, где проходит его детство. Не случайно в самых ранних детских воспоминаниях часто присутствует комната или предмет мебели или любая другая часть жилья. А взрослому уже человеку в определенный период жизни оказывается важно увидеть снова место, где он провел детство (город, улицу, квартиру).
Покидание привычного пространства для ребенка всегда сопровождается чувствами. Их много. Но они не всегда очевидны для родителей. Зачастую родители могут привести ребенка к психологу и высказывать опасения про его эмоциональное состояние. И обычно никогда изменившееся состояние ребенка не связывают с переездом. Особенно если переезд происходил в лучшие условия. Взрослым кажется что ребенок просто должен радоваться новому жилью, новой школе и новым друзьям. Но они игнорируют очень важный момент: переезд (как и переход в другую школу) — это всегда ПОТЕРЯ. А потеря актуализирует процесс горевания. И если для проживания горя нет в семье условий, то ребенок может погрузиться в травму. Это может сопровождаться депрессией, телесным симптомом или неконтролируемыми аффектами и перепадами настроения, усталостью, нарушением сна и т.д.
Как помочь ребенку пережить изменения, связанные с потерей прежнего дома:
По возможности заранее готовить его к этому событию.
Чем младше ребенок, тем он больше нуждается в привязанности, а значит ему важнее, чтобы он не утратил общения с родителями в новых условиях. Это прежде всего актуально, когда люди разъезжаются в связи с разводом, и ребенок остается с одним из родителей. Важно сохранять связь в любом формате (переписка, встречи, видеосвязь) с важными для детей людьми.
Нужно учитывать, что состояние регресса при переезде неизбежно. Это значит, что у ребенка будет какое-то время меньше возможностей сохранять прежний ритм жизни и нагрузку. Малыши могут перестать отпускать родителя по делам, спать отдельно или идти играть к другим деткам. Дети школьного возраста могут снизить успеваемость, больше проводить время в гаджетах, перестать хотеть на кружки.
Все это происходит потому что психика переполнена трудными переживаниями и это забирает много сил и возможностей, которые в прежние времена можно было тратить на развитие. Если этот этап длится слишком долго или что-то в проявлениях ребенка настораживает родителей, лучше обратиться к специалистам (неврологу и психологу).
Состояние родителя — это то, на что сможет опереться ребенок, проживая потерю. На «замершего» в своем собственном горе или отрицающего потерю родителя сложно опереться и проживать свои чувства. Обычно это усугубляет состояние ребенка. Терапия родителя поможет запустить процесс горевания, и тогда у ребенка будет внутреннее разрешение проживать свои чувства.
Помогать ребенку психически восстанавливать и сохранять связь с важным ему местом/людьми. В этом помогут рисунки, семейные воспоминания, фотографии, предметы, которые удалось сохранить при переезде. Особое значение имеют любимые игрушки и вещи, к которым был привязан ребенок на протяжении его детства.
И самое важное — это возможность с каким-либо взрослым рядом переживать свои чувства: грустить, злиться, обсуждать, вспоминать и т. д. То есть возможность активно реагировать эмоционально на изменения жизни. Родителям не нужно бояться этого процесса. Это необходимый этап. У всех детей он длится разное количество времени. Но только отгоревав старое можно начать впускать новое.
Переезд для любого человека это сильнейший стресс.
А для ребенка это событие может стать травматичным. Попробуем разобраться, как это происходит.
Для маленького ребенка мама, а позже и оба родителя, — это весь его мир. Жилье — это вместилище этого мира (психически и физически).
Поэтому эмоционально ребенок очень привязан к тому месту, где проходит его детство. Не случайно в самых ранних детских воспоминаниях часто присутствует комната или предмет мебели или любая другая часть жилья. А взрослому уже человеку в определенный период жизни оказывается важно увидеть снова место, где он провел детство (город, улицу, квартиру).
Покидание привычного пространства для ребенка всегда сопровождается чувствами. Их много. Но они не всегда очевидны для родителей. Зачастую родители могут привести ребенка к психологу и высказывать опасения про его эмоциональное состояние. И обычно никогда изменившееся состояние ребенка не связывают с переездом. Особенно если переезд происходил в лучшие условия. Взрослым кажется что ребенок просто должен радоваться новому жилью, новой школе и новым друзьям. Но они игнорируют очень важный момент: переезд (как и переход в другую школу) — это всегда ПОТЕРЯ. А потеря актуализирует процесс горевания. И если для проживания горя нет в семье условий, то ребенок может погрузиться в травму. Это может сопровождаться депрессией, телесным симптомом или неконтролируемыми аффектами и перепадами настроения, усталостью, нарушением сна и т.д.
Как помочь ребенку пережить изменения, связанные с потерей прежнего дома:
По возможности заранее готовить его к этому событию.
Чем младше ребенок, тем он больше нуждается в привязанности, а значит ему важнее, чтобы он не утратил общения с родителями в новых условиях. Это прежде всего актуально, когда люди разъезжаются в связи с разводом, и ребенок остается с одним из родителей. Важно сохранять связь в любом формате (переписка, встречи, видеосвязь) с важными для детей людьми.
Нужно учитывать, что состояние регресса при переезде неизбежно. Это значит, что у ребенка будет какое-то время меньше возможностей сохранять прежний ритм жизни и нагрузку. Малыши могут перестать отпускать родителя по делам, спать отдельно или идти играть к другим деткам. Дети школьного возраста могут снизить успеваемость, больше проводить время в гаджетах, перестать хотеть на кружки.
Все это происходит потому что психика переполнена трудными переживаниями и это забирает много сил и возможностей, которые в прежние времена можно было тратить на развитие. Если этот этап длится слишком долго или что-то в проявлениях ребенка настораживает родителей, лучше обратиться к специалистам (неврологу и психологу).
Состояние родителя — это то, на что сможет опереться ребенок, проживая потерю. На «замершего» в своем собственном горе или отрицающего потерю родителя сложно опереться и проживать свои чувства. Обычно это усугубляет состояние ребенка. Терапия родителя поможет запустить процесс горевания, и тогда у ребенка будет внутреннее разрешение проживать свои чувства.
Помогать ребенку психически восстанавливать и сохранять связь с важным ему местом/людьми. В этом помогут рисунки, семейные воспоминания, фотографии, предметы, которые удалось сохранить при переезде. Особое значение имеют любимые игрушки и вещи, к которым был привязан ребенок на протяжении его детства.
И самое важное — это возможность с каким-либо взрослым рядом переживать свои чувства: грустить, злиться, обсуждать, вспоминать и т. д. То есть возможность активно реагировать эмоционально на изменения жизни. Родителям не нужно бояться этого процесса. Это необходимый этап. У всех детей он длится разное количество времени. Но только отгоревав старое можно начать впускать новое.
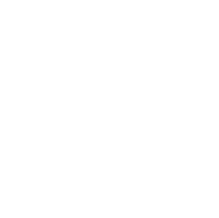
Моисейченко Анна, психоаналитический психотерапевт, ассоциированный член Московской психоаналитической ассоциации
Читая вопрос, сложилось впечатление, что это задача, в которой что-то «дано», и несколько неизвестных. Четко сформулированный вопрос часто уже половина решения. Когда вопрос размыт и нет структуры, сложно найти не только выход из ситуации, но и понять, что происходит. Попробуем разобраться и предположить в чем возникло затруднение.
Вопрос: «Как и куда жить?», — может указывать на чувство беспомощности, бессилия и, в то же время, желание, чтобы кто-то взял ответственность за вашу жизнь. Чувствуется тревога и растерянность. Похоже, вы не осознаете, что происходит в вашей жизни.Попробуем дать название тому, что есть, исходя из вопроса. Есть родители, с которыми сейчас непросто взаимодействовать. Есть их неудовлетворенные ожидания по отношению к вам. Есть значительная зависимость от одобрения важных для вас людей — родителей. Мы все, так или иначе, нуждаемся в том, чтобы нас принимали, поддерживали, одобряли. Но это не то, что нужно заслуживать.
Право на любовь и принятие родителей — то, что дано по праву рождения. Больно и печально, когда родители сравнивают с другими, высказывают недовольство какие мы есть/стали. Иногда, к этому приводит личная нереализованность родителей или, наоборот, высокая требовательность к себе подразумевает, что и дети должны быть такими же. Так или иначе, в готовых сценариях отсутствует свобода, право на личный выбор. Важно понять, каждый из нас — отдельный человек, к какой бы структуре, семье не принадлежал бы. Да, мы — дети своих родителей. Это факт, но мы другие и имеем право жить свою жизнь, исходя из своих предпочтений и представлений.
Возможно, стоит подумать о том, как так сложилось, что влияние окружающих (пусть близких) так сильно, что парализует на собственную жизнь?В психологию часто приводит личная боль, порой сложно выразимая и непереносимая. Это поиск ответов на те чувства, которые возникают внутри. Что-то и вас привело в психологию.Могу предположить, что нет разделения между вами и родительскими фигурами. Это про отсутствие сепарации и сложности с личными границами. Отсюда эта потерянность внутри. Возникающее чувство вины перед родителями тоже указывает на отсутствие сепарации. Ощущение, что вы хотите жить, но жить жизнью родителей (та модель, которую они предлагают), по тем или иным причинам, вам не подходит. В конце концов, мы можем жить только собственную жизнь.
Возникает вопрос: насколько вы сепарированы на физическом уровне в материальном плане и на психическом?Сепарация проходит естественно, когда родители обладают достаточной степенью автономности, имеют надежную связь с ребенком, позволяют ему открыто выражать свои чувства, поощряют действия, создают безопасную среду, объясняют запреты и ограничения, поддерживают и являются опорой. В процессе сепарации родителям приходится адаптироваться к изменениям, что приводит к поиску новых способов взаимодействия с взрослеющим ребенком, принятию, что ребенок лучше знает, что делать со своей жизнью, и позволению свободно ей распоряжаться.
Сепарироваться — не означает вычеркнуть родителей из жизни, перестать общаться или видеться. Сепарация — двусторонний процесс, где задача детей — отделиться, а родителей — отпустить. Последствия незавершенной сепарации сильно осложняют жизнь.Поэтому, рекомендовала бы пойти в терапию и там отгоревать то, что вас и привело к этим вопросам и к внутреннему отчаянию. Не в одиночестве, а чтобы рядом был кто-то, кто поможет прожить, понять, исследовать какая вы, кто вы и чего хотите на самом деле для себя? Потому что, если сепарация не произошла (физическая и психическая), значит что-то этому препятствует и не дает случиться. Попробовать с помощью специалиста проделать эту работу. А дальше сами поймете куда направить жизнь, чем заниматься и как себя реализовывать.
Новое рождается из внутреннего поиска и внутренней готовности к изменениям. Для этого должно быть место внутри вас.
Читая вопрос, сложилось впечатление, что это задача, в которой что-то «дано», и несколько неизвестных. Четко сформулированный вопрос часто уже половина решения. Когда вопрос размыт и нет структуры, сложно найти не только выход из ситуации, но и понять, что происходит. Попробуем разобраться и предположить в чем возникло затруднение.
Вопрос: «Как и куда жить?», — может указывать на чувство беспомощности, бессилия и, в то же время, желание, чтобы кто-то взял ответственность за вашу жизнь. Чувствуется тревога и растерянность. Похоже, вы не осознаете, что происходит в вашей жизни.Попробуем дать название тому, что есть, исходя из вопроса. Есть родители, с которыми сейчас непросто взаимодействовать. Есть их неудовлетворенные ожидания по отношению к вам. Есть значительная зависимость от одобрения важных для вас людей — родителей. Мы все, так или иначе, нуждаемся в том, чтобы нас принимали, поддерживали, одобряли. Но это не то, что нужно заслуживать.
Право на любовь и принятие родителей — то, что дано по праву рождения. Больно и печально, когда родители сравнивают с другими, высказывают недовольство какие мы есть/стали. Иногда, к этому приводит личная нереализованность родителей или, наоборот, высокая требовательность к себе подразумевает, что и дети должны быть такими же. Так или иначе, в готовых сценариях отсутствует свобода, право на личный выбор. Важно понять, каждый из нас — отдельный человек, к какой бы структуре, семье не принадлежал бы. Да, мы — дети своих родителей. Это факт, но мы другие и имеем право жить свою жизнь, исходя из своих предпочтений и представлений.
Возможно, стоит подумать о том, как так сложилось, что влияние окружающих (пусть близких) так сильно, что парализует на собственную жизнь?В психологию часто приводит личная боль, порой сложно выразимая и непереносимая. Это поиск ответов на те чувства, которые возникают внутри. Что-то и вас привело в психологию.Могу предположить, что нет разделения между вами и родительскими фигурами. Это про отсутствие сепарации и сложности с личными границами. Отсюда эта потерянность внутри. Возникающее чувство вины перед родителями тоже указывает на отсутствие сепарации. Ощущение, что вы хотите жить, но жить жизнью родителей (та модель, которую они предлагают), по тем или иным причинам, вам не подходит. В конце концов, мы можем жить только собственную жизнь.
Возникает вопрос: насколько вы сепарированы на физическом уровне в материальном плане и на психическом?Сепарация проходит естественно, когда родители обладают достаточной степенью автономности, имеют надежную связь с ребенком, позволяют ему открыто выражать свои чувства, поощряют действия, создают безопасную среду, объясняют запреты и ограничения, поддерживают и являются опорой. В процессе сепарации родителям приходится адаптироваться к изменениям, что приводит к поиску новых способов взаимодействия с взрослеющим ребенком, принятию, что ребенок лучше знает, что делать со своей жизнью, и позволению свободно ей распоряжаться.
Сепарироваться — не означает вычеркнуть родителей из жизни, перестать общаться или видеться. Сепарация — двусторонний процесс, где задача детей — отделиться, а родителей — отпустить. Последствия незавершенной сепарации сильно осложняют жизнь.Поэтому, рекомендовала бы пойти в терапию и там отгоревать то, что вас и привело к этим вопросам и к внутреннему отчаянию. Не в одиночестве, а чтобы рядом был кто-то, кто поможет прожить, понять, исследовать какая вы, кто вы и чего хотите на самом деле для себя? Потому что, если сепарация не произошла (физическая и психическая), значит что-то этому препятствует и не дает случиться. Попробовать с помощью специалиста проделать эту работу. А дальше сами поймете куда направить жизнь, чем заниматься и как себя реализовывать.
Новое рождается из внутреннего поиска и внутренней готовности к изменениям. Для этого должно быть место внутри вас.
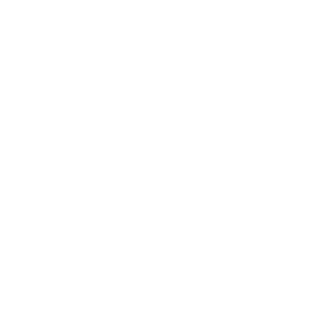
Мария Павлова, психотерапевт, преподаватель, супервизор
Дети выбирают те защиты, которые им доступны психологически в силу условий формирования их психики и давления окружения. Таким образом на этапе формирования защиты она является спасением. Станет ли такая защита со временем во взрослом возрасте обременяющими доспехами? Очень вероятно. Думал ли автор письма, почему его/её это беспокоит?
Сценарий и контрсценарий это две стороны одной медали. Часто контрсценарий создается на основе своего бессознательного сильного влечения и гневной внутренней борьбы с этим влечением. В семье, где есть зависимый, где эта зависимость существует много лет, всегда есть определённая констелляция отношений, которая либо поддерживает зависимого, либо сражается с ним, но при этом система не рушится, остальные члены семьи всегда в большей или меньшей степени созависимы.
На одном уровне у членов семьи есть давление гнева, обиды и разочарования, даже ненависти к алкоголику и тем, кто не защищает. Есть неприятие к алкоголю и/или поведению под воздействием алкоголя — отсюда неприятие использования алкоголя в своей жизни или в жизни своих избранников. В этом способе есть характерный для многих созависимых признак тотальности восприятия и отсутствия различий между людьми. На другом, гораздо менее осознанном уровне есть привлекательность способов расслабления, разрядки, ослабления внутреннего давления тяжелых чувств, расторможенности, которые алкоголик в семье демонстрировал годами.
Это давление, пока не будет найдено способов его выдерживать и понимать свои переживания, будет стремиться к разрядке. Если алкоголь согласно антисценарию под запретом, то разрядка будет достигаться другим способом: другое химическое вещество, запой в работе, гневные срывы в отношениях и т.п.
Отвечая на вопрос автора: ребенок в условиях продолжающейся годами травмирующей ситуации созависимой семьи и отсутствия возможности осмысления ситуации как семейной болезни, неизбежно выберет какой-то из сценариев, какой именно не так важно. Здесь важнее, что движущей силой защитного поведения остается зависимость.
Дети выбирают те защиты, которые им доступны психологически в силу условий формирования их психики и давления окружения. Таким образом на этапе формирования защиты она является спасением. Станет ли такая защита со временем во взрослом возрасте обременяющими доспехами? Очень вероятно. Думал ли автор письма, почему его/её это беспокоит?
Сценарий и контрсценарий это две стороны одной медали. Часто контрсценарий создается на основе своего бессознательного сильного влечения и гневной внутренней борьбы с этим влечением. В семье, где есть зависимый, где эта зависимость существует много лет, всегда есть определённая констелляция отношений, которая либо поддерживает зависимого, либо сражается с ним, но при этом система не рушится, остальные члены семьи всегда в большей или меньшей степени созависимы.
На одном уровне у членов семьи есть давление гнева, обиды и разочарования, даже ненависти к алкоголику и тем, кто не защищает. Есть неприятие к алкоголю и/или поведению под воздействием алкоголя — отсюда неприятие использования алкоголя в своей жизни или в жизни своих избранников. В этом способе есть характерный для многих созависимых признак тотальности восприятия и отсутствия различий между людьми. На другом, гораздо менее осознанном уровне есть привлекательность способов расслабления, разрядки, ослабления внутреннего давления тяжелых чувств, расторможенности, которые алкоголик в семье демонстрировал годами.
Это давление, пока не будет найдено способов его выдерживать и понимать свои переживания, будет стремиться к разрядке. Если алкоголь согласно антисценарию под запретом, то разрядка будет достигаться другим способом: другое химическое вещество, запой в работе, гневные срывы в отношениях и т.п.
Отвечая на вопрос автора: ребенок в условиях продолжающейся годами травмирующей ситуации созависимой семьи и отсутствия возможности осмысления ситуации как семейной болезни, неизбежно выберет какой-то из сценариев, какой именно не так важно. Здесь важнее, что движущей силой защитного поведения остается зависимость.
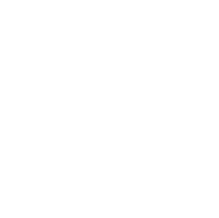
Анна Моисейченко, психоаналитический психотерапевт, ассоциированный член Московской психоаналитической ассоциации
Семья — это система, где все члены влияют друг на друга вне зависимости от их желания. В семьях, где есть алкоголизм, каждый несчастен по-своему. Это взаимозависимая система, и рядом с зависимым, как правило, находится созависимый. Дисфункциональность семьи с алкогольной зависимостью воспитывает и в детях созависимые черты. Вопрос, все же, о минимизации токсичного воздействия. А значит есть понимание и осведомленность возможных последствий.
Тема зависимости не так однозначна. Развод и изоляция от пьющего родителя не разрешают ситуацию, ребенок не перестает быть ребенком алкоголика, а изоляция привносит свои последствия. Зависимое поведение — не то, от чего получится избавиться, это скорее то, с чем можно научиться жить.
Нет единой модели поведения и развития ребёнка в данном контексте. На это будет влиять множество факторов: психические, личностные особенности, возраст, восприимчивость ребенка, степень алкоголизма и др. Часто дети в таких семьях вынуждены рано становиться взрослыми, но это, так называемая, «псевдозрелость».
Предлагаю выделить то, на что обратить внимание и что может помочь в этом вопросе.
1. Среда (окружение) занимает особое место. Есть ли люди, к которым ребенок может обратиться за помощью и поддержкой (родственники, друзья, учителя, тренера)?
2. Рядом с нетрезвым родителем может быть небезопасно. Насколько ребенок чувствует себя в безопасности? Насколько в безопасности чувствуете себя вы?
3. Следует ввести и проговорить с ребенком важные правила, аргументируя их смысл. Например, почему не следует садиться в машину к нетрезвому водителю, даже если это родитель.
4. Не следует скрывать алкоголизм родителя от ребенка. Об этом нужно говорить. Ребенку важно знать, что родитель любит его несмотря на то, что находится под воздействием алкоголя.
5. Зрелые родители являются опорой для ребенка. Такие родители заботятся о себе, о здоровых крепких отношениях. Какие отношения ребенку транслирует ваша пара?
6. Контейнирование. Важным моментом в «минимизации токсичного воздействия» является помощь в проживании чувств, с которыми ребенку справится особенно сложно, которые возникают вследствие алкоголизма родителя. Часто в таких семьях молчат и не принято говорить о чувствах.
Чувства, на которые стоит обратить внимание:
Стыд. Ребенок не может обсудить это со сверстниками (рассказывать о том, что родитель пьет – стыдно), из-за этого порой разрушаются отношения с друзьями.
Чувство вины, что родитель пьет. Ребенку необходимо понять, что он не ответственен за чувства и поведение родителей, что это выбор взрослых. В этом нет вины ребенка.
Беспомощность и бессилие. Помогать принять «невсемогущество». Есть то, что мы не в силах изменить. Когда понимаем, на личном опыте, какой ценой даются даже самые минимальные изменения, то перестаем требовать это от других. Это не означает, что нужно терпеть и мирится, например, с жестоким обращением, напротив.
Гнев и злость. Ребенок будет злится на взрослых и на себя. Это чувство естественно, но в данном контексте отягощается и становится разрушительным. Не запрещать проживать злость и гнев. Предлагать делать это с помощью моторной разрядки и творчества (спортивные секции, вокал, рисование, лепка).
Страх. Говорить с ребенком о его страхах. Например, ребенок может бояться, что алкоголизм передается по наследству. Объяснять почему это не обязательное условие.
Разочарованность и недоверие. Алкоголики часто обманывают, могут что-то обещать и не выполнять.
Семья — это система, где все члены влияют друг на друга вне зависимости от их желания. В семьях, где есть алкоголизм, каждый несчастен по-своему. Это взаимозависимая система, и рядом с зависимым, как правило, находится созависимый. Дисфункциональность семьи с алкогольной зависимостью воспитывает и в детях созависимые черты. Вопрос, все же, о минимизации токсичного воздействия. А значит есть понимание и осведомленность возможных последствий.
Тема зависимости не так однозначна. Развод и изоляция от пьющего родителя не разрешают ситуацию, ребенок не перестает быть ребенком алкоголика, а изоляция привносит свои последствия. Зависимое поведение — не то, от чего получится избавиться, это скорее то, с чем можно научиться жить.
Нет единой модели поведения и развития ребёнка в данном контексте. На это будет влиять множество факторов: психические, личностные особенности, возраст, восприимчивость ребенка, степень алкоголизма и др. Часто дети в таких семьях вынуждены рано становиться взрослыми, но это, так называемая, «псевдозрелость».
Предлагаю выделить то, на что обратить внимание и что может помочь в этом вопросе.
1. Среда (окружение) занимает особое место. Есть ли люди, к которым ребенок может обратиться за помощью и поддержкой (родственники, друзья, учителя, тренера)?
2. Рядом с нетрезвым родителем может быть небезопасно. Насколько ребенок чувствует себя в безопасности? Насколько в безопасности чувствуете себя вы?
3. Следует ввести и проговорить с ребенком важные правила, аргументируя их смысл. Например, почему не следует садиться в машину к нетрезвому водителю, даже если это родитель.
4. Не следует скрывать алкоголизм родителя от ребенка. Об этом нужно говорить. Ребенку важно знать, что родитель любит его несмотря на то, что находится под воздействием алкоголя.
5. Зрелые родители являются опорой для ребенка. Такие родители заботятся о себе, о здоровых крепких отношениях. Какие отношения ребенку транслирует ваша пара?
6. Контейнирование. Важным моментом в «минимизации токсичного воздействия» является помощь в проживании чувств, с которыми ребенку справится особенно сложно, которые возникают вследствие алкоголизма родителя. Часто в таких семьях молчат и не принято говорить о чувствах.
Чувства, на которые стоит обратить внимание:
Стыд. Ребенок не может обсудить это со сверстниками (рассказывать о том, что родитель пьет – стыдно), из-за этого порой разрушаются отношения с друзьями.
Чувство вины, что родитель пьет. Ребенку необходимо понять, что он не ответственен за чувства и поведение родителей, что это выбор взрослых. В этом нет вины ребенка.
Беспомощность и бессилие. Помогать принять «невсемогущество». Есть то, что мы не в силах изменить. Когда понимаем, на личном опыте, какой ценой даются даже самые минимальные изменения, то перестаем требовать это от других. Это не означает, что нужно терпеть и мирится, например, с жестоким обращением, напротив.
Гнев и злость. Ребенок будет злится на взрослых и на себя. Это чувство естественно, но в данном контексте отягощается и становится разрушительным. Не запрещать проживать злость и гнев. Предлагать делать это с помощью моторной разрядки и творчества (спортивные секции, вокал, рисование, лепка).
Страх. Говорить с ребенком о его страхах. Например, ребенок может бояться, что алкоголизм передается по наследству. Объяснять почему это не обязательное условие.
Разочарованность и недоверие. Алкоголики часто обманывают, могут что-то обещать и не выполнять.
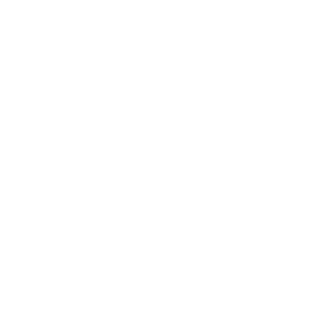
Мария Павлова, психотерапевт, преподаватель, супервизор
В описанной ситуации требовать от себя научения гармонии и состоянию баланса это верный путь усилить состояние перенапряжения. Мне кажется, это желание вполне понятно: неприятности и сложности обыденной жизни так и сыпятся, сконцентрированы в моменте и, возможно, делают сейчас жизнь невыносимой. Некие абстрактные «Гармония и баланс» в этих условиях могут казаться панацеей, но скорее это wishful thinking, грандиозная и идеалистическая цель, недостижение которой приведет к чувству вины и разочарования в себе.
Я бы сосредоточилась в текущей ситуации на имеющихся ресурсах и их укреплении, на том, что могло бы принести, пусть кратковременно, но удовлетворение и радость. Я бы также думала о времени, о том, что часть текущих процессов в жизни не зависит от воли и действий автора, но зависят от времени. Например, гипс снимут рано или поздно, как это время обездвиженности заполнить содержанием? Как сделать отношения с мамой наполненными во время ее болезни?
В обстоятельствах, которые от нас не зависят, мы можем улучшить свое положение извлекая пользу из отношений, делая их ближе, легче, веселее. Автор пока наверное не может пойти со всеми детьми в кино, но что если вместе с детьми посмотреть дома классный фильм, близкий для всех возрастов? Это не рецепт, конечно, но пример возможности.
Отношения, это место в нашей психической жизни и в реальности, где в наших силах улучшить и изменить и получать больше радости. Семейное консультирование могло бы внести вклад в понимание сложностей отношений с мужем.
В описанной ситуации требовать от себя научения гармонии и состоянию баланса это верный путь усилить состояние перенапряжения. Мне кажется, это желание вполне понятно: неприятности и сложности обыденной жизни так и сыпятся, сконцентрированы в моменте и, возможно, делают сейчас жизнь невыносимой. Некие абстрактные «Гармония и баланс» в этих условиях могут казаться панацеей, но скорее это wishful thinking, грандиозная и идеалистическая цель, недостижение которой приведет к чувству вины и разочарования в себе.
Я бы сосредоточилась в текущей ситуации на имеющихся ресурсах и их укреплении, на том, что могло бы принести, пусть кратковременно, но удовлетворение и радость. Я бы также думала о времени, о том, что часть текущих процессов в жизни не зависит от воли и действий автора, но зависят от времени. Например, гипс снимут рано или поздно, как это время обездвиженности заполнить содержанием? Как сделать отношения с мамой наполненными во время ее болезни?
В обстоятельствах, которые от нас не зависят, мы можем улучшить свое положение извлекая пользу из отношений, делая их ближе, легче, веселее. Автор пока наверное не может пойти со всеми детьми в кино, но что если вместе с детьми посмотреть дома классный фильм, близкий для всех возрастов? Это не рецепт, конечно, но пример возможности.
Отношения, это место в нашей психической жизни и в реальности, где в наших силах улучшить и изменить и получать больше радости. Семейное консультирование могло бы внести вклад в понимание сложностей отношений с мужем.
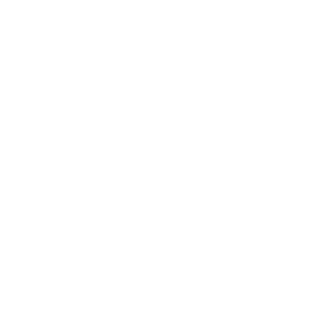
Марина Загорная, психолог, психотерапевт
В своем сообщении вы говорите о потере и болезненных чувствах горевания по утрате любви отца, по утрате того, чего никогда и не было.
В процессе всего взросления девочка многое ждет от своего отца. Она может даже не осознавать своих ожиданий и не формулировать их как конкретные желания. И если ее ожидания не встречаться с реальными инвестициями родителя, то не появляется образа (представления) того, в чем она нуждалась.
Проблема в том, что мы не можем оплакать пустоту, отсутствие, дыру… Мы можем понимать головой, что «Я чего-то ждала. Чего-то продолжаю ждать. Чего-то очень важное и ценное». Но что именно? И продвинуться в этом процессе вам может помочь фантазирование. Вы можете фантазировать и представлять, чего вы ждали в детстве от своего отца, о чем завидовали другим девочкам, у которых были более теплые отношения с отцом. Помогут фильмы/мультфильмы, книги, истории других людей, наблюдение за своими и чужими детьми. Обсуждайте эти фантазии со своим психотерапевтом и говорите о том, а что вообще может дать отец своей дочери на разных этапах ее взросления.
Хорошо, что у вас уже есть рациональное понимание того, «что ему неоткуда взять». Это важная часть вашей внутренней работы по принятию того факта, что ваш отец был всего лишь обычным живым человеком со своими ограничениями, травмами и дефицитами, и что не все, что с ним происходило, он мог выбирать. И что есть реальность, которая заключается в том, что мы не можем дать своим детям и внукам того, чего не имели сами.
У вас есть ваши отношения с психотерапевтом, и это те условия, в которых к рациональному пониманию постепенно могут подключиться самые разные переживания: злость, боль, сожаление, беспомощность, нужда, печаль и многие другие. Эти чувства помогут вам прийти к осознанию того, что он (отец) всё-таки был и смог дать вам максимум из того, что у него было в распоряжении. И ужасно жаль, что не было тепла, интереса, внимания, признания, присутствия, но что-то все же было. Возможно он давал материальные вещи — еду, крышу над головой, решение социальных вопросов, статус. Возможно, он работал в тот период, когда ваша мама сидела с вами в декрете, и тем самым создал безопасное и защищенное пространство для вашего младенчества. Будучи мамой, вы наверняка, уже столкнулись с тем фактом, что потребности детей в любви гораздо больше, чем-то, что мы можем им дать в реальности. Но, тем не менее, каждый родитель дает своему ребенку 100% из того, что у него самого имеется в психическом распоряжении. К сожалению, эти 100% у каждого очень разные по своему объёму.
Вы пишете о том, что дефицит любви и внимания отца — это не только ваша потеря, но и потеря для ваших детей (его внуков). Данная ситуация может стать для них бесценным опытом. Если вы сможете их сопровождать в сложных чувствах по поводу недостаточного присутствия дедушки. Разговаривать с ними от том, чего бы они хотели, чем могли бы заниматься с дедом, какой он человек, его историю. Сочувствовать и разделять разочарование, печаль и обиду своих детей по поводу сложившейся ситуации.
Совместное проживание этого процесса может сблизить вас с детьми, и помочь им в будущем справляться с переживаниями дефицитов и разочарований, которых, к сожалению, невозможно избежать.
В своем сообщении вы говорите о потере и болезненных чувствах горевания по утрате любви отца, по утрате того, чего никогда и не было.
В процессе всего взросления девочка многое ждет от своего отца. Она может даже не осознавать своих ожиданий и не формулировать их как конкретные желания. И если ее ожидания не встречаться с реальными инвестициями родителя, то не появляется образа (представления) того, в чем она нуждалась.
Проблема в том, что мы не можем оплакать пустоту, отсутствие, дыру… Мы можем понимать головой, что «Я чего-то ждала. Чего-то продолжаю ждать. Чего-то очень важное и ценное». Но что именно? И продвинуться в этом процессе вам может помочь фантазирование. Вы можете фантазировать и представлять, чего вы ждали в детстве от своего отца, о чем завидовали другим девочкам, у которых были более теплые отношения с отцом. Помогут фильмы/мультфильмы, книги, истории других людей, наблюдение за своими и чужими детьми. Обсуждайте эти фантазии со своим психотерапевтом и говорите о том, а что вообще может дать отец своей дочери на разных этапах ее взросления.
Хорошо, что у вас уже есть рациональное понимание того, «что ему неоткуда взять». Это важная часть вашей внутренней работы по принятию того факта, что ваш отец был всего лишь обычным живым человеком со своими ограничениями, травмами и дефицитами, и что не все, что с ним происходило, он мог выбирать. И что есть реальность, которая заключается в том, что мы не можем дать своим детям и внукам того, чего не имели сами.
У вас есть ваши отношения с психотерапевтом, и это те условия, в которых к рациональному пониманию постепенно могут подключиться самые разные переживания: злость, боль, сожаление, беспомощность, нужда, печаль и многие другие. Эти чувства помогут вам прийти к осознанию того, что он (отец) всё-таки был и смог дать вам максимум из того, что у него было в распоряжении. И ужасно жаль, что не было тепла, интереса, внимания, признания, присутствия, но что-то все же было. Возможно он давал материальные вещи — еду, крышу над головой, решение социальных вопросов, статус. Возможно, он работал в тот период, когда ваша мама сидела с вами в декрете, и тем самым создал безопасное и защищенное пространство для вашего младенчества. Будучи мамой, вы наверняка, уже столкнулись с тем фактом, что потребности детей в любви гораздо больше, чем-то, что мы можем им дать в реальности. Но, тем не менее, каждый родитель дает своему ребенку 100% из того, что у него самого имеется в психическом распоряжении. К сожалению, эти 100% у каждого очень разные по своему объёму.
Вы пишете о том, что дефицит любви и внимания отца — это не только ваша потеря, но и потеря для ваших детей (его внуков). Данная ситуация может стать для них бесценным опытом. Если вы сможете их сопровождать в сложных чувствах по поводу недостаточного присутствия дедушки. Разговаривать с ними от том, чего бы они хотели, чем могли бы заниматься с дедом, какой он человек, его историю. Сочувствовать и разделять разочарование, печаль и обиду своих детей по поводу сложившейся ситуации.
Совместное проживание этого процесса может сблизить вас с детьми, и помочь им в будущем справляться с переживаниями дефицитов и разочарований, которых, к сожалению, невозможно избежать.
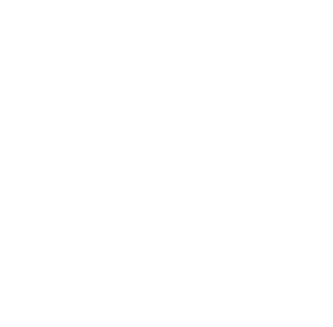
Елена Бочкарева, психолог, психотерапевт
Это ответ клинического психолога с опытом амбулаторного приема в детской поликлинике в течение 19 лет.
Я в первую очередь настоятельно рекомендую обратиться к самому ребенку с вопросом: „Как дела? Как настроение? Какие планы на выходной день — может проведем его вместе? Пойдем на каток или покатаемся на лыжах, поплаваем в бассейне или просто погуляем по городу?“.
Возбужденное состояние — это чаще всего гипермобилизация организма в ответ на хронический уровень стресса. Посмотрите внимательно на условия жизни этого мальчика: как он спит, какой у него режим дня, много ли времени он гуляет и дышит свежим воздухом, достаточная ли у него физическая нагрузка: в 9 лет мальчику необходимо много бегать и прыгать. Посмотрите внимательно — достаточно ли он общается со своей мамой, со своим папой, когда последний раз его кто-то обнимал, часто ли его хвалят и говорят хорошие слова?
И если Вы ответили на все эти вопросы и сделали все, что рекомендуется: погуляли, поговорили, обняли и утешили, а проблема остается, тогда начните с психолога — специалист сможет провести необходимую диагностику и определит дальнейший маршрут помощи в решении этой проблемы.
Это ответ клинического психолога с опытом амбулаторного приема в детской поликлинике в течение 19 лет.
Я в первую очередь настоятельно рекомендую обратиться к самому ребенку с вопросом: „Как дела? Как настроение? Какие планы на выходной день — может проведем его вместе? Пойдем на каток или покатаемся на лыжах, поплаваем в бассейне или просто погуляем по городу?“.
Возбужденное состояние — это чаще всего гипермобилизация организма в ответ на хронический уровень стресса. Посмотрите внимательно на условия жизни этого мальчика: как он спит, какой у него режим дня, много ли времени он гуляет и дышит свежим воздухом, достаточная ли у него физическая нагрузка: в 9 лет мальчику необходимо много бегать и прыгать. Посмотрите внимательно — достаточно ли он общается со своей мамой, со своим папой, когда последний раз его кто-то обнимал, часто ли его хвалят и говорят хорошие слова?
И если Вы ответили на все эти вопросы и сделали все, что рекомендуется: погуляли, поговорили, обняли и утешили, а проблема остается, тогда начните с психолога — специалист сможет провести необходимую диагностику и определит дальнейший маршрут помощи в решении этой проблемы.
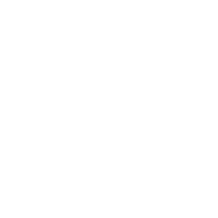
Ольга Мазурова, психолог
В некоторых подходах, например, когнитивно-поведенческом, домашние задания могут быть частью терапии. Мы рассмотрим вопрос с позиций психодинамического подхода, который не предусматривает дополнительной работы между встречами.
Если пациент спрашивает о заданиях на первых диагностических встречах
В начале терапии мы коротко рассказываем о сути подхода и можем сказать о том, что вся работа происходит во время сеансов. Если пациент все же настаивает на домашнем задании, можно предложить ему понаблюдать за своим состоянием после встречи. И если он вернется к этой теме, обсудить ее на следующем сеансе.
Если вопрос задается в самом начале терапии, за ним может стоять желание узнать, как терапевт будет работать. Возможно, пациент читал о каком-то конкретном подходе в терапии и у него сложились определенные ожидания.
Но, скорее всего под вопросом о домашнем задании скрывается тревога пациента. О тревоге обязательно нужно говорить. При этом на начальных диагностических встречах мы стараемся поддерживать ее некоторый оптимальный уровень, не погружая пациента глубоко в ее причины, но и не успокаивая его.
Можно спросить об ожиданиях, какое домашнее задание хотел бы получить пациент, можно попробовать проинтерпретировать перенос или высказать простые гипотезы о возможных причинах волнения, например: «Похоже незнакомая ситуация смущает вас, наверно было бы проще чувствовать себя пациентом, выполняющим назначения врача», «Я понимаю, Вы впервые пришли на терапию, и Вы тревожитесь о том, как и что здесь будет происходить».
Если пациент просит задания, находясь в терапии
Если пациент уже начал терапию и просит домашнее задание, то мы подходим к этой просьбе, как и к любому другому проявлению. Если пациент просит задание в течении сеанса, то у нас есть время на исследование этой просьбы. Мы исследуем, что стоит за ней, размышляем и фантазируем.
В целом можно даже сказать об универсальном правиле. За любым проявлением пациента мы какое-то время наблюдаем. Если оно многократно воспроизводится, мы ждем — один раз, второй, — и в очередной раз, но не сразу, интерпретируем.
Возможно, эта просьба — отражение способа контролировать ситуацию, реакция на неопределенность. Пациенту не хватает времени, трудно ждать до следующей встречи, трудно оставаться одному. И получить задание — это для него возможность унести что-то с собой, сохранить связь с терапевтом. Возможно, это страх прийти «пустым» на следующий сеанс, страх начать говорить о себе.
Если просьба дать задание всплывает в самом конце и времени на исследование не остается, то мы заканчиваем встречу обычными фразами. Например, предлагая вернуться к этому вопросу в следующий раз или просто указывая на то, что время закончилось.
Просьбы о домашнем задании в самом конце встречи могут быть связаны с «жадностью» пациента, «голодом»: хочется получить от терапевта больше.
Кроме того, на основании того, как построен вопрос, послуживший поводом к этой маленькой консультации, можно пофантазировать о том, что чувствует терапевт, столкнувшийся с подобной просьбой, в своем контрпереносе. Можно предположить, что в его контрпереносе есть переживание давления со стороны пациента, есть ощущение требовательности, чувство, что нужно дать больше, чем-то, что терапевт может здесь и сейчас. Как мы это определили? Терапевт спрашивает: «Что делать?», а не «Что можно подумать, сказать о пациенте, как понять такое поведение?»
Анализируя контрперенос, можно думать об объектных отношениях пациента. Каковы они, что активируется сейчас в вашей работе: «послушный ребенок — требовательная мать», «старательный отличник — мать, которую надо умилостивить», «тревожный ребенок — невнимательная мать» и т. д.
Это значит, что терапевту, столкнувшемуся с определенными поведением или словами пациента, которые вызывают у него особую эмоциональную реакцию, особые чувства, тревогу или затруднения, нужно обязательно обратить на них внимание и подумать, что они говорят о пациенте.
В некоторых подходах, например, когнитивно-поведенческом, домашние задания могут быть частью терапии. Мы рассмотрим вопрос с позиций психодинамического подхода, который не предусматривает дополнительной работы между встречами.
Если пациент спрашивает о заданиях на первых диагностических встречах
В начале терапии мы коротко рассказываем о сути подхода и можем сказать о том, что вся работа происходит во время сеансов. Если пациент все же настаивает на домашнем задании, можно предложить ему понаблюдать за своим состоянием после встречи. И если он вернется к этой теме, обсудить ее на следующем сеансе.
Если вопрос задается в самом начале терапии, за ним может стоять желание узнать, как терапевт будет работать. Возможно, пациент читал о каком-то конкретном подходе в терапии и у него сложились определенные ожидания.
Но, скорее всего под вопросом о домашнем задании скрывается тревога пациента. О тревоге обязательно нужно говорить. При этом на начальных диагностических встречах мы стараемся поддерживать ее некоторый оптимальный уровень, не погружая пациента глубоко в ее причины, но и не успокаивая его.
Можно спросить об ожиданиях, какое домашнее задание хотел бы получить пациент, можно попробовать проинтерпретировать перенос или высказать простые гипотезы о возможных причинах волнения, например: «Похоже незнакомая ситуация смущает вас, наверно было бы проще чувствовать себя пациентом, выполняющим назначения врача», «Я понимаю, Вы впервые пришли на терапию, и Вы тревожитесь о том, как и что здесь будет происходить».
Если пациент просит задания, находясь в терапии
Если пациент уже начал терапию и просит домашнее задание, то мы подходим к этой просьбе, как и к любому другому проявлению. Если пациент просит задание в течении сеанса, то у нас есть время на исследование этой просьбы. Мы исследуем, что стоит за ней, размышляем и фантазируем.
В целом можно даже сказать об универсальном правиле. За любым проявлением пациента мы какое-то время наблюдаем. Если оно многократно воспроизводится, мы ждем — один раз, второй, — и в очередной раз, но не сразу, интерпретируем.
Возможно, эта просьба — отражение способа контролировать ситуацию, реакция на неопределенность. Пациенту не хватает времени, трудно ждать до следующей встречи, трудно оставаться одному. И получить задание — это для него возможность унести что-то с собой, сохранить связь с терапевтом. Возможно, это страх прийти «пустым» на следующий сеанс, страх начать говорить о себе.
Если просьба дать задание всплывает в самом конце и времени на исследование не остается, то мы заканчиваем встречу обычными фразами. Например, предлагая вернуться к этому вопросу в следующий раз или просто указывая на то, что время закончилось.
Просьбы о домашнем задании в самом конце встречи могут быть связаны с «жадностью» пациента, «голодом»: хочется получить от терапевта больше.
Кроме того, на основании того, как построен вопрос, послуживший поводом к этой маленькой консультации, можно пофантазировать о том, что чувствует терапевт, столкнувшийся с подобной просьбой, в своем контрпереносе. Можно предположить, что в его контрпереносе есть переживание давления со стороны пациента, есть ощущение требовательности, чувство, что нужно дать больше, чем-то, что терапевт может здесь и сейчас. Как мы это определили? Терапевт спрашивает: «Что делать?», а не «Что можно подумать, сказать о пациенте, как понять такое поведение?»
Анализируя контрперенос, можно думать об объектных отношениях пациента. Каковы они, что активируется сейчас в вашей работе: «послушный ребенок — требовательная мать», «старательный отличник — мать, которую надо умилостивить», «тревожный ребенок — невнимательная мать» и т. д.
Это значит, что терапевту, столкнувшемуся с определенными поведением или словами пациента, которые вызывают у него особую эмоциональную реакцию, особые чувства, тревогу или затруднения, нужно обязательно обратить на них внимание и подумать, что они говорят о пациенте.
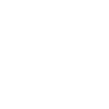
Алла Матус, практикующий психолог, детский психотерапевт, экзистенциальный терапевт, супервизор, обучающий психотерапевт по методу символ-драмы.
Признаки, которые должны насторожить:
1. Изменения в поведении ребёнка — отказ от общения с друзьями у прежде общительного ребёнка, потеря интереса к учебе (если учеба прежде была интересна и важна). Неопрятный внешний вид у ребенка, прежде большое внимание уделяющего тому, как он выглядит и т. п.
2. У ребенка отсутствует интерес буквально ко всему, ничто не вызывает эмоций, нежелание выходить на улицу и посещать места, в которых раньше было интересно, отказ или равнодушие от прежде интересовавших занятий. Ребенок может автоматически «сёрфить» в интернете, при этом не обращая внимания на то, какие картинки мелькают перед ним, или играть в видеоигры, при этом не испытывая никаких эмоций.
3. В общем отсутствие эмоциональных проявлений — создается впечатление, что ему все безразлично, ничто не радует и не огорчает (что воля, что не воля все равно). В контрпереносе рядом с таким ребенком у терапевтов часто возникает чувство пустоты, тяжести, бессилия, скуки, ощущение, что в ребенке нет жизни.
4.Нарушение сна (отсутствие сна либо ребенок постоянно хочет спать).
5. Нарушение аппетита (отсутствие либо наоборот постоянное чувство голода).
6. Постоянная усталость, вялость, апатия, быстрая истощаемость, беспокойство, тревожность. В поведении равнодушие и безразличие, разговоры о собственной плохости, никчемности и вине, желание угодить и часто извиняться. Может проявляться сверхчувствительность к громким звукам, раздражительность, агрессивные выплески, после чего появляется чувство вины.
7. Аутоагрессивное поведение (постоянно ударяется, травмируется не специально или наносит повреждения умышленно).
8. Частые головные боли или боли в животе.
Если у ребенка помимо грусти Вы наблюдаете какие-либо из вышеперечисленных симптомов, необходимо обратиться за консультацией к психиатру.
Признаки, которые должны насторожить:
1. Изменения в поведении ребёнка — отказ от общения с друзьями у прежде общительного ребёнка, потеря интереса к учебе (если учеба прежде была интересна и важна). Неопрятный внешний вид у ребенка, прежде большое внимание уделяющего тому, как он выглядит и т. п.
2. У ребенка отсутствует интерес буквально ко всему, ничто не вызывает эмоций, нежелание выходить на улицу и посещать места, в которых раньше было интересно, отказ или равнодушие от прежде интересовавших занятий. Ребенок может автоматически «сёрфить» в интернете, при этом не обращая внимания на то, какие картинки мелькают перед ним, или играть в видеоигры, при этом не испытывая никаких эмоций.
3. В общем отсутствие эмоциональных проявлений — создается впечатление, что ему все безразлично, ничто не радует и не огорчает (что воля, что не воля все равно). В контрпереносе рядом с таким ребенком у терапевтов часто возникает чувство пустоты, тяжести, бессилия, скуки, ощущение, что в ребенке нет жизни.
4.Нарушение сна (отсутствие сна либо ребенок постоянно хочет спать).
5. Нарушение аппетита (отсутствие либо наоборот постоянное чувство голода).
6. Постоянная усталость, вялость, апатия, быстрая истощаемость, беспокойство, тревожность. В поведении равнодушие и безразличие, разговоры о собственной плохости, никчемности и вине, желание угодить и часто извиняться. Может проявляться сверхчувствительность к громким звукам, раздражительность, агрессивные выплески, после чего появляется чувство вины.
7. Аутоагрессивное поведение (постоянно ударяется, травмируется не специально или наносит повреждения умышленно).
8. Частые головные боли или боли в животе.
Если у ребенка помимо грусти Вы наблюдаете какие-либо из вышеперечисленных симптомов, необходимо обратиться за консультацией к психиатру.
ВАШ ВОПРОС
• *